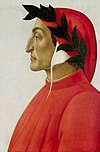Трудности поэтического перевода, усугубляемые историческими и творческими особенностями текста «Божественной Комедии», ставили весьма серьёзные препятствия к знакомству с этим литературным памятником, в частности и перед русскими его истолкователями. Ранние переводы поэмы, в том числе Мина, Минаева, Чюминой и других, были далеки или относительно далеки от смысловой передачи и подлинного содержания, и сложной стилистики оригинала. Равноценный оригиналу перевод творения Данте на русский язык был осуществлён только в советскую эпоху М. Л. Лозинским. Удостоенный в 1946 году Государственной премии I степени, перевод Лозинского имеет полное право на признание его выдающимся явлением в истории русской поэзии. В более позднее время, в конце XX — начале XXI века, возникло ещё несколько новаторских переводов «Божественной комедии», в том числе переводы Илюшина и Маранцмана, позволяющие взглянуть на оригинал с точки зрения, отличной от Лозинского.
Краткие сведения о русскоязычных переводах
Здесь представлен полный список русскоязычных переводов «Божественной комедии» с информацией о времени их написания и первой публикации в хронологическом порядке[1].
- О. М. Сомов, «Надпись на вратах адовых: Из Дантовой поэмы Ад» («Украинский вестник», 1817, 6 (4), с. 100);
- А. С. Норов, «Отрывок из 3-й песни поэмы Ад» («Сын Отечества», 1823, № 30, с. 183—188);
- П.А. Катенин, «Ад. Песнь первая, песнь вторая, песнь третья, Уголин», в: «Сочинения и переводы в стихах Павла Катенина, с приобщением нескольких стихотворений князя Голицына», II, СПб, 1832, с. 91-111.
- С. П. Шевырев, «Мною входят в град скорбей безутешных...» — начало 3 песни «Ада»[2] («Ученые записки Императорского Московского Университета», 1833, 5 (2))
Далее указаны только переводы кантик или полные переводы «Божественной комедии» на русский язык.
- Ф. Фан-Дим, «Ад», перевод с итальянского (Санкт-Петербург, 1842—1843; прозой);
- Д. Е. Мин, «Ад», перевод размером подлинника (частичная публикация в 1844, полная — Москва, 1855), «Первая песнь Чистилища» («Русский вестник», 1865, 9[3]), публикация полного перевода — посмертно (1902—1904)[4];
- В. А. Петров, «Божественная комедия» (пер. с итал. терцинами, СПб, 1871, 3-е издание 1872; перев. только «Ад»);
- Д. Д. Минаев, «Божественная комедия» (Лпц. и СПб. 1874, 1875, 1876, 1879), переведено не с подлинника, терцинами (переиздание — М., 2006);
- В. В. Чуйко, «Божественная комедия», прозаический перевод, три части изданы отдельными книгами, СПб., 1894;
- М. А. Горбов, Божественной комедии часть вторая: С объясн. и примеч. М., 1898. («Чистилище»);
- Н. Н. Голованов, «Божественная комедия» (1896—1902[4], выполнен терцинами);
- О. Н. Чюмина, «Божественная комедия» (СПб., 1900), переведено не с подлинника (переиздание — М., 2007). Половинная Пушкинская премия (1905);
- М. Л. Лозинский, «Божественная комедия» (1936—1942[4]). Сталинская премия (1946)[5];
- Б. К. Зайцев, «Божественная комедия. Ад», подстрочный перевод прозой (1913—1918, первая публикация отдельных песен в 1928 и 1931, первая полная публикация в 1961)[6];
- А. А. Илюшин, «Божественная комедия» (с 1960-х по 1980, первая частичная публикация в 1988, полное издание в 1995[7], переиздан в 2014[8])
- В. С. Лемпорт, «Божественная комедия» (закончен в 1997)[9];
- В. Г. Маранцман, «Dante. Божественная Комедия.» (1989—1999[10], впервые опубликован в 1999, переиздан в 2006[11])
Характеристика дореволюционных переводов
В дореволюционной России существовало пять полных стихотворных переводов «Божественной Комедии». Вот что пишет о них поэт и переводчик М. Лозинский, обосновывая необходимость нового, более точного и более литературного перевода: «…перевод А. П. Фёдорова (1892—1894) — не более чем литературный курьёз. Перевод Д. Минаева (1874—1876) — далёк от подлинника и расплывчат: самое число стихов в отдельных песнях значительно большее, чем в оригинале. Терцинное строение в нём не соблюдено, а без него нарушается архитектоника поэмы. То же следует сказать и о позднейшем переводе О. Чюминой (1900—1902). Ближе передаёт и форму и содержание подлинника перевод Н. Голованова (1896—1902), но и он во многих отношениях несовершенен. Несравненно более ценен перевод Дмитрия Мина. „Ад“ (V песнь которого была им напечатана ещё в 1844 году) вышел в свет в 1855 году. Полное издание „Комедии“ явилось уже посмертным (1902—1904). При всех своих достоинствах перевод Мина не всегда в должной степени точен, а главное — он написан стихами, по которым трудно судить о поэтической мощи подлинника»[12][4].
Филолог И. Н. Голенищев-Кутузов в своей работе «Данте в России» в основном подтверждал мнение Лозинского о предшествующих ему русских переводах и необходимости совершенно другого перевода: так, Мин, переводя поэму, «бережно относился к слову, был даже порой педантично строг, но ему не хватало того поэтического полета, который претворяет переводное и делает его отечественным, как часто случается у Лозинского»[13]. Говоря о переводах второй половины XIX века, Голенищев-Кутузов подчеркивает ограниченные поэтические способности их создателей: «Вслед за Мином в конце века появилось ещё несколько полных переводов „Божественной Комедии“ Д. Минаева, А. Федорова и Н. Голованова. Минаев совершенно лишен переводческого таланта, стих его тяжел, а культура весьма ограниченна. Много хуже Минаева перевод А. П. Федорова.<…> [Его] перевод начат терцинами, но и в строфике и в ритмике Федорова число срывов нарастает к концу. В настоящее время этот опус может рассматриваться только как чудачество невежественного человека.[14]<…> Серьезнее был стихотворный перевод Н. Голованова»[15]. Перевод же Чюминой, как указывает филолог, вторичен: «[Ольга Чюмина] перевела со свободной рифмой, современным русским языком и имела значительный успех. Однако за незнанием итальянского поэтесса обратилась к какому-то французскому, очевидно прозаическому, переводу». По мнению Голенищева-Кутузова, явным превосходством обладает созданный уже в советское время «талантливый и квалифицированный» поэтический перевод поэмы Лозинского[15].
Влияние французских переводов
В то время как во Франции с конца XVIII века поэму многократно переводят целиком, во всей целостности её грандиозной конструкции (с 1776 по 1855 годы было создано 11 полных переводов «Комедии»; всего же в XIX веке насчитывается 33 перевода), в России она вплоть до середины XIX века предлагается читателю лишь небольшими фрагментами. Обусловлено это тем, что русская образованная публика того времени была хорошо знакома с «Комедией» благодаря французским переводам. Именно с учётом этого факта ранние переводы художественного текста «Комедии» с итальянского языка на русский осуществлялись если не целиком с французских переводов-посредников, то с учётом их опыта и очень часто с многочисленными фразеологическими, рифмическими, синтаксическими или лексическими заимствованиями из них. Безусловно, это свидетельствует о большом влиянии, которое оказывала французская дантеистика на русскую культуру[2].
Перевод «Божественной комедии» М. Л. Лозинского
Перевод «Божественной комедии» М. Л. Лозинского с итальянского языка на русский был создан в 1936—1942 годах. Выполнен с сохранением размера и рифмовки подлинника. Включает в себя авторские примечания, составленные по материалам средневековых и более поздних комментаторов Данте. Неоднократно переиздавался. «За образцовый перевод в стихах произведения Данте „Божественная Комедия“» поэту Михаилу Лозинскому была присуждена Сталинская премия I степени (1946).
Работа Лозинского над переводом «Божественной комедии»
Работая над переводом поэмы, Лозинский глубоко погружался в биографию Данте и подробно изучал различные итальянские издания «Божественной комедии». Он читал и средневековых комментаторов Данте, таких, как Кристофоро Ландино (1481), и современных самому переводчику — Казини-Барби (1944) и Скартаццини-Ванделли (1946)[4][16]. Как отмечал Е. Г. Эткинд в своей книге «Поэзия и перевод», подготовительные материалы Лозинского представляли собой «десятки папок, содержащих разнообразные изыскания, рефераты, конспекты, наблюдения, списки, чертежи, выписки, фотокопии и проч.»[17]. В архиве Лозинского сохранились соответствующие папки, позволяющие составить представление о фундаментальной предварительной работе, проделанной переводчиком. Среди них, в частности, «Библиография Данте» (картотека с «дантеаной» и переписка с учёными), «Книги о Данте» (конспекты десятков монографий о поэте и его эпохе, а также труды по истории, философии и искусствознанию на пяти языках), «Материалы к „Божественной комедии“» (реальный и лингвистический комментарий), «Просодия Данте» (стиховые переносы, классификация рифм и т. п.), «Рифмы» (списки рифмующих окончаний по всем песням), «Слова» (лексические возможности русского языка)[18].
Первые строки «Ада» Лозинский перевёл 8 февраля 1936 года; перевод «Ада» был закончен 13 января 1938 года (работа над ним заняла 224 дня; в течение этих двух лет переводчика отвлекали болезни, а также другие литературные работы)[Комм. 1]. В период с 10 октября 1939 по 7 декабря 1940 года он выполнил перевод «Чистилища» и уже позднее написал примечания к нему (10 марта — 25 мая 1941 года).[4].
Затем наступила Великая Отечественная война. Осенью 1941 года началась блокада Ленинграда. Государственный Эрмитаж взял на хранение в свои глубокие подвалы (оборудованные под бомбоубежище) написанные Лозинским рукописи перевода «Чистилища» и примечаний к нему. Самому Лозинскому было предложено эвакуироваться самолетом, причём из-за жесткого ограничения веса багажа он мог взять с собой лишь необходимые для работы над неоконченной частью перевода книги и рукописи. Вместе с женой Лозинский 30 ноября 1941 года прилетел из Ленинграда в Казань, откуда затем переехал в Елабугу, где в период с 6 февраля по 14 ноября 1942 года выполнил перевод «Рая» и параллельно с его написанием составил примечания к «Раю» (17 февраля — 16 ноября 1942 года)[4]. В декабре 1945 — январе 1946 годов Лозинский написал вступительную статью к переводу поэмы, которая называлась «Данте Алигьери». По замыслу переводчика, статья должна была ознакомить читателя со смыслом поэмы и мироощущением Данте[16].
В своей беседе с литературоведом Г. П. Блоком поэт высказался о своей работе над переводом максимально откровенно:
«Я отдал семь лет жизни на то, чтобы сильно почтить память Данте, и счастлив, что довёл дело до конца. Три части, сто песней, 14 233 стиха — это не мало. Рифмованные терцины — исключительно трудный размер. Структура русского языка далека от итальянского. Многие места „Божественной Комедии“ неясны. Над ними трудились комментаторы всех стран, споря между собой. Приходилось делать выбор между их толкованиями. А там, где текст Данте допускает разные понимания, надо было делать так, чтобы и русский текст мог быть понят двояко или трояко. В течение этих семи лет я работал и над другими вещами. На перевод Данте мною потрачено, собственно, 576 рабочих дней, причём бывало, что за целый день я осилю всего 6 стихов, но случалось, что переведу и 69, в среднем же — около 24 стихов в день… Чем глубже я вникал в „Божественную Комедию“, тем больше преклонялся перед её величием. В мировой литературе она высится как горный кряж, ничем не заслонённый»[4]
В 1946 году Лозинский «за образцовый перевод в стихах произведения Данте „Божественная Комедия“» был удостоен Сталинской премии I степени[4].
Язык перевода Лозинского
| Данте | Лозинский | |
|---|---|---|
|
«Nel mezzo del cammin di nostra vita Ahi quanto a dir qual era è cosa dura, |
«Земную жизнь пройдя до половины, Каков он был, о, как произнесу, | |
|
Божественная комедия, Ад, песнь I, строки 1—6 | ||
Академик-филолог И. И. Толстой дал следующий отзыв на перевод Лозинским «Божественной комедии»:
«Глубокоуважаемый и дорогой Михаил Леонидович! Читаю Ваш дивный перевод „Божественной Комедии“, читаю неотрывно и с благоговением. Я бесконечно Вам признателен за Ваш подарок. Конечно, не я первый и не я последний будет или уже выражал Вам чувства неподдельного восхищения Вашим переводом, но радость от чтения Вашей книги воспринимает ведь каждый по-своему… Я безотрывно читаю Вашу книгу как бы убаюканный строгим и в то же время бесконечно близким, обращаемым прямо к Сердцу восхитительным размером терцин бессмертной поэмы, мелодику которой Вы сумели с таким непревзойдённым мастерством передать на наш родной язык… Какой вы дивный переводчик! Чтобы передать текст Данте так, как передали его Вы, надо не только знать в совершенстве итальянский язык, ему современный, и историческую обстановку, но надо, чтобы в человеке звучали струны самой высокой и чистой, подлинной поэзии. Непревзойдённо высоко и правдиво звучит Ваш перевод для того уха, которое способно слушать бессмертный голос чистых звуков. Между прочим — в качестве „post scriptum“ — внимательно читаю я и Ваши „примечания“ с большим для себя профитом, и хотя они, что сразу видно, и урезаны, но всё же они Ваши, то есть сделаны со вкусом и пониманием дела»[4].
Филолог Е. Г. Эткинд писал, что Лозинский сумел воссоздать на русском языке характерное для Данте «стилистическое богатство» и передать «своеобразные стилистические явления итальянской поэзии средствами русского языка». Эткинд отмечает, что язык перевода отличается «темнотой некоторых строк, а также за то, что на лексике перевода лежит легкий налет архаичности, который в ряде песен подменяет стилистическую атмосферу Данте иной, более торжественной, иногда даже выспренной». Однако Эткинд подчеркивает, что именно в этом и заключалась задача Лозинского как переводчика, что это «не случайная ошибка. Дымкой архаизмов он <…> в поэме Данте нередко стремится передать ощущение исторической отдаленности произведения, поднять его над повседневностью, над бытом, над временем». Работая над переводом, Лозинский стремился не приукрашивать переводимое произведение, отказывался от гладкости и благозвучности, если её не было в оригинале, не позволял себе просветлять текст в сравнении с оригиналом, делать его яснее и прозрачнее, облегчать его для читателя внутренними комментариями[19].
Литературовед М. Л. Гаспаров, исследуя русскоязычные переводы «Божественной комедии», охарактеризовал перевод Лозинского как «изумительный», «прочный и точный», «образцовый», «незыблемый и монументальный». Это подтверждается тем фактом, что в переводе Лозинского коэффициент точности (процент слов подлинника, сохраненных в переводе, от общего числа слов подлинника) составляет 74 %, коэффициент вольности (процент слов перевода, не находящих прямого соответствия в подлиннике, от числа слов перевода) — 31 %; для песни I «Ада» соблюдается 73 % точности и 27 % вольности, в песни XXX «Ада» три четверти слов оригинала сохранены, одна четверть добавлена для ритма и рифмы (такие добавления чаще оказываются в третьей строке терцины). По его мнению, особенности взаимоотношений между оригиналом и переводом поэмы состоят в том, что «Данте, создавая „Комедию“, создавал итальянский поэтический язык; порой наглядно видно, как он с трудом обходит перифразами самые ответственные места, убирая швы между несмыкающимися словами с помощью предлогов и союзов. Лозинский, создавая свой перевод, был во всеоружии русского поэтического языка, он мог достичь того, к чему Данте только стремился, его слова пригнаны одно к одному без зазора»[20].
Переводчик, создатель ещё одного русскоязычного перевода «Божественной комедии» В. С. Лемпорт полагает, что язык перевода Лозинского «затемнил оригинал лирическим шаманством и игрой аллегорий. У Данте все ясно и предельно конкретно». Кроме того, В. Лемпорт указывает на неточности перевода Лозинского и его аллюзии к современной ему политической ситуации в России: "Что такое «Меж войлоком и войлоком державный» (Ад, песнь I, строка 105)? Фельтро (итал. Feltro), если быть точным, фетр, а не войлок. Кроме того, Фельтро — город, а также порода собаки, левретка.<…> зловещие слова над вратами ада у переводчика Лозинского получились в каком-то лирическом темпе: «Я увожу к потерянным (у Лозинского — „отверженным“) селеньям…» (Ад, песнь III, строка 3), тогда как в подлиннике: «Это мною заведен город страданий».<…> Перевод Лозинского был сделан в 1939 году. В то самое время, когда наша страна превратилась в город Дит. Миллионы мучеников, без вины виноватых. И вдруг главу десятую (Ада) Лозинский начинает так: «И вот идет, тропинкою, по краю,/ Между стеной кремля и местом мук,/ Учитель мой, и я вослед ступаю». В то время сравнить, даже назвать ад — Кремлем!"[21].
Издания перевода «Божественной комедии» Лозинского
В «Литературном современнике» (1938. № 3, 4) вышли I, III, V, XIII, XXV и XXVI песни «Ада» с примечаниями самого М. Лозинского. В 1939 году Гослитиздат выпустил «Ад» в переводе М. Лозинского со вступительной статьёй А. К. Дживелегова и комментариями И. М. Гревса. В 1940 году то же издательство выпустило «Ад» со вступительной статьёй А. К. Дживелегова и комментариями А. И. Белецкого; оба эти издания были раскуплены за несколько дней. В «Литературном современнике» (1940. № 4, 12) были напечатаны I, IV, VI и IX песни «Чистилища» с примечаниями М. Лозинского. Гослитиздат предполагал издать «Чистилище» в 1941 году, но из-за войны это осуществилось только в 1944 году (вступительная статья А. К. Дживелегова, примечания М. Лозинского). В 1945 году журнал «Ленинград» (№ 1, 2) опубликовал отрывки из XXVII и XXVIII песней «Рая» в переводе и с примечаниями М. Лозинского; в том же году Гослитиздат издал «Рай» в переводе и с примечаниями М. Лозинского и со вступительной статьей А. К. Дживелегова[4].
Сам Лозинский желал, чтобы его перевод «Божественной Комедии» был опубликован в одном томе с его примечаниями (составляли 16 авторских листов[19]) и его вступительной статьей. Несмотря на то, что рецензенты отозвались о статье положительно, руководство Гослитиздата решило издать в 1950 году «Божественную Комедию» в одном томе, но со вступительной статьёй литературоведа К. Н. Державина. Также Гослитиздат потребовал у автора урезать примечания вдвое (до 8 авторских листов); в таком виде они и были изданы[4][16].
Здесь перечислены полные посмертные издания всего перевода Лозинского:
- Данте Алигьери. Божественная комедия / в пер. М. Лозинского (примечания М. Лозинского). — М.: Гослитиздат (перепечатка издания 1950 г.), 1961.
- Данте Алигьери. Божественная комедия / в пер. М. Лозинского (вступительная статья Б. А. Кржевского, примечания М. Лозинского). — М.: Художественная литература, 1967.
- Данте Алигьери. Божественная комедия / в пер. М. Лозинского (послесловие и примечания к «Аду» И. Н. Голенищева-Кутузова, примечания к «Чистилищу» и «Раю» М. Лозинского). — М.: Наука, 1967.
- Данте Алигьери. Божественная комедия / в пер. М. Лозинского (вступительная статья К. Н. Державина, примечания М. Лозинского). — М.: Художественная литература, 1974.
- Данте Алигьери. Божественная комедия / в пер. М. Лозинского (вступительная статья К. Н. Державина, примечания М. Лозинского). — М.: Правда, 1982.
- Данте Алигьери. Божественная комедия / в пер. М. Лозинского (примечания М. Лозинского). — М.: Московский рабочий, 1986.[4].
Характеристика позднейших переводов
| Илюшин | Маранцман | |
|---|---|---|
|
«На полдороге странствий нашей жизни О, расскажу ли я о нем, могучем, |
«В средине нашей жизненной дороги Как рассказать, чтоб он в словах воскрес? | |
|
Божественная комедия, Ад, песнь I, строки 1—6 | ||
Сопоставляя переводы Михаила Лозинского и Владимира Маранцмана (1989—1999), можно отметить, что их тексты, хотя и написаны одним размером — пятистопным ямбом, стилистически резко отличаются друг от друга: перевод М. Лозинского подчёркнуто классичен, в то время как перевод В. Маранцмана написан более разговорным языком. Экспериментальный перевод В. Маранцмана вызвал многочисленные споры в среде филологов, не все из которых поддержали эксперимент. Критики также высказались за ещё один новаторский с точки зрения стилистики перевод «Комедии»: речь идёт о написанном силлабическим одиннадцатисложником тексте Александра Илюшина (1960—1980)[24].
В. Маранцман руководствовался в своём переводе принципом (указанном им самим в предисловии к собственной работе), который состоит в том, что точность перевода обеспечивается не только правдой слов, но и правдой чувств[25]. Эта его установка раскрывается в критике, обращённой к предшественникам. В переводе Лозинского Маранцмана не устраивает «торжественная классичность», «намеренная архаизация» и «романтическая патетичность», то есть всё создающее стилистическую перспективу и отдаляющее текст от массового читателя. Сам же Маранцман стремится «сделать текст понятным и без комментария, чтобы в общем своем строе каждая песнь была понятна современному читателю». Реалии и имена невозможно сделать «понятными без комментария», поэтому такая понятность может быть достигнута только при условии устранения и нивелировки всего уже непонятного нашим современникам в дантовском мироощущении[26].
Совершенно иначе с переводом Илюшина. Во-первых, его перевод написан силлабическим строем: у этого эксперимента Илюшина почти нет предшественников ни в оригинальной, ни в переводной поэзии (за исключением нескольких терцин, переведенных Шевыревым в 1833 году[2]). Вторая новация, на которую указывает сам переводчик, — это разнообразие стилистических и даже языковых регистров. Специфика стиля Данте состоит, по мнению Илюшина, в сочетании архаизмов и неологизмов: архаизмы он передаёт с помощью церковнославянских слов и выражений (в том числе и непонятных современному массовому русскому читателю, не обладающему специальной подготовкой), неологизмы — с помощью своих неологизмов, «неожиданных и рискованных»[27]. Адресат илюшинского перевода — «филологически ориентированный» читатель; перевод Илюшина, в отличие от перевода Маранцмана, приближает не текст к читателю, а читателя к тексту[26].
Появление сразу двух более близких к нам по времени переводов «Комедии» и дебаты вокруг них подняли вопрос о критериях оценки поэтического перевода. Эксперименты авторов последних переводов «Комедии» носят в основном стилистический характер, любая оценка их труда остаётся постольку субъективной, поскольку производной от представления, которое каждый из критиков имеет о стиле Данте. Это и объясняет, почему споры вокруг новых переводов до сих пор остаются открытыми[24].
Примечания
Комментарии
- ↑ Более подробные сведения о датировках и темпах работы М. Лозинского над переводом «Комедии» передала в архив Дантовской комиссии И. В. Лозинская
Источники
- ↑ Попова-Рогова Н. А. К вопросу передачи рифмы в русских переводах Божественной Комедии М.Л. Лозинского и А.А. Илюшина (на материале III песни Ада). fupress.net с.50, 61—62. Проверено 10 апреля 2018.
- 1 2 3 Мошонкина Е. Переводческая рецепция «Божественной комедии» в XIX в. в России и во Франции: попытка сопоставительного анализа. science.asu.edu.ru с.5. Проверено 10 апреля 2018.
- ↑ Русский вестник, том 59 с.134—138. Проверено 10 апреля 2018.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C. М. Лозинский. История одного перевода «Божественной Комедии». wikilivres.org. Проверено 11 октября 2017.
- ↑ И. Н. Голенищев-Кутузов. «Данте и мировая культура»/Данте в России. dante.rhga.ru (1971). Проверено 9 октября 2017.
- ↑ «Русский Ад Бориса Зайцева». www.inieberega.ru. Проверено 6 октября 2017.
- ↑ Данте размером подлинника. godliteratury.ru. Проверено 6 октября 2017.
- ↑ Данте Алигьери. Божественная Комедия / в пер. А. Илюшина, примечания М. И. Никола. — М.: Дрофа, 2014.
- ↑ Новый перевод Данте. www.kommersant.ru. Проверено 6 октября 2017.
- ↑ Мошонкина Е. Переводческая рецепция «Божественной комедии» в XIX в. в России и во Франции: попытка сопоставительного анализа. science.asu.edu.ru с.2. Проверено 10 апреля 2018.
- ↑ Dante. Божественная Комедия / в пер. В. Маранцмана. — СПб.: Амфора, 2006.
- ↑ Литературный современник. — Ленинград: Гослитиздат, 1938. — № 3. — С. 98.
- ↑ Данте в России, 1971, с. 499.
- ↑ Данте в России, 1971, с. 502—503.
- 1 2 Данте в России, 1971, с. 505.
- 1 2 3 М. Л. Лозинский. Данте Алигьери. wikilivres.org. Проверено 11 октября 2017.
- ↑ Поэзия и перевод, 1963, с. 186.
- ↑ Поэзия и перевод, 1963, с. 186—190.
- 1 2 Е. Эткинд. Творчество М. Л. Лозинского // Багровое светило / под ред. Б. Щуплецова. — М.: Прогресс, 1974. — С. 20—21.
- ↑ М. Л. Гаспаров. О новом переводе «Ада» Данте, выполненном В. Г. Маранцманом. — СПб., 2006. — С. 7—8.
- ↑ Новый перевод Данте. www.kommersant.ru. Проверено 6 октября 2017.
- ↑ Данте Алигьери. Божественная Комедия / в пер. А. Илюшина, примечания М. И. Никола. — М.: Дрофа, 2014. — С. 27.
- ↑ Dante. Божественная Комедия / в пер. В. Маранцмана. — СПб.: Амфора, 2006. — С. 22.
- 1 2 Мошонкина Е. Русские переводы «Божественной комедии» Данте в свете статистического анализа. science.asu.edu.ru. Проверено 9 октября 2017.
- ↑ Dante. Божественная Комедия / в пер. В. Маранцмана. — СПб.: Амфора, 2006. — С. 11.
- 1 2 М. Л. Андреев. Новые русские переводы «Божественной Комедии» в свете одной идеи М.Л. Гаспарова // Журнальный зал: НЛО. — 2008. — № 92.
- ↑ Данте Алигьери. Божественная Комедия / в пер. А. Илюшина. — М.: МГУ, 1995. — С. 28.
Литература
- Эткинд Е.Г. Поэзия и перевод. — М.: Советский писатель, 1963. — С. 185—197.
- Голенищев-Кутузов И. Н. Данте в России // Данте и мировая культура. — М., 1971. — С. 499—504.
Статья является кандидатом в хорошие статьи с 16 февраля 2019. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .