| Эмиль Дюркгейм | |
|---|---|
| Émile Durkheim | |
 | |
| Дата рождения | 15 апреля 1858[1][2][…] |
| Место рождения | Эпиналь, Франция |
| Дата смерти | 15 ноября 1917[1][2][…] (59 лет) |
| Место смерти | Париж, Франция |
| Страна | |
| Научная сфера | социология |
| Место работы | |
| Альма-матер | Высшая нормальная школа (Париж) |
| Научный руководитель | Эмиль Бутру, Фюстель де Куланж |
| Известные ученики | Марсель Мосс |
| Известен как | один из создателей социологии как самостоятельной науки |
Давид Эмиль Дюркгейм (фр. David Émile Durkheim, 15 апреля 1858 — 15 ноября 1917) — французский социолог и философ, основатель французской социологической школы и предшественник структурно-функционального анализа. Наряду с Огюстом Контом, Карлом Марксом и Максом Вебером считается основоположником социологии как самостоятельной науки[3][4].
Социальная интеграция в условиях модерна, лишённого традиционных и религиозных связей, представляли главный исследовательский интерес Дюркгейма. Первый крупный труд социолога, «О разделении общественного труда», увидел свет в 1893 году, а через два года он опубликовал свои «Правила социологического метода». Тогда же он стал первым профессором социологии первого во Франции социологического факультета[5]. В 1897 году он представил монографию «Суицид», где провёл сравнительный анализ статистики самоубийств в католических и протестантских обществах. Данная работа, положившая начало современным социологическим исследованиям, позволила окончательно отделить социологию от психологии и социальной философии. В 1898 году Дюркгейм учредил журнал L’Année Sociologique («Социологический ежегодник»). Наконец, в книге 1912 года «Элементарные формы религиозной жизни» Дюркгейм представил свою теорию религии, основанную на сопоставлении общественной и культурной жизни аборигенов и современников.
Дюркгейм желал видеть социологию широко признанной, полноценной научной областью. Он переработал созданный Контом позитивистский подход и предложил свою методологическую систему, своего рода эпистемологический реализм. Другим предметом его популяризации стал гипотетико-дедуктивный метод. В понимании Дюркгейма социология представала наукой об институтах в широком смысле, то есть об «убеждениях и способах поведения, установленных коллективно»[6][прим. 1]. Целью социологии он видел изучение структурных социальных фактов. Дюркгейм был предшественником структурного функционализма как в социологии, так и в антропологии.
До самой смерти, настигшей учёного в 1917 году, Дюркгейм оставался одной из центральных фигур французской интеллектуальной жизни. Он стал автором многочисленных лекций и публикаций, посвящённых проблемам социологии знаний, образования, религии, права, а также вопросам морали, социальной стратификации и девиантного поведения. Дюркгейм ввёл в научный оборот ряд популярных ныне терминов, в частности, «коллективное сознание»[7].
Биография
Детство. Образование
Дюркгейм родился в лотарингском Эпинале в религиозной еврейской семье. Его отец, дед и прадед служили раввинами[8]. В раввинской школе начинал учиться и сам Эмиль, однако в довольно раннем возрасте он отказался следовать семейной традиции и перешёл в другую школу[8][9]. Дальнейшая его жизнь была полностью светской, и в своих трудах Дюркгейм неоднократно показывал, что феномен религии был в большей степени определён социальными факторами. Тем не менее, социолог сохранил связи как со своей семьёй, так и с еврейским сообществом[8]. Многие соавторы и студенты исследователя происходили именно из этой среды, причём некоторые находились с Дюркгеймом в родственных отношениях. Известный социоантрополог Марсель Мосс приходился Дюркгейму племянником[3].
Несмотря на скорое развитие, Дюркгейм стал студентом Высшей нормальной школы лишь с третьей попытки, в 1879 году[9][10]. Как оказалось, курс Дюркгейма стал одним из самых талантливых в XIX веке. Многие его товарищи, в том числе Жан Жорес и Анри Бергсон, впоследствии заняли центральное место во французской интеллектуальной среде. Университетским руководителем Дюркгейма был Нюма-Дени Фюстель де Куланж, историк и сторонник общественно-научной методологии. Диссертация Дюркгейма, написанная на латыни, была посвящена творчеству Монтескьё[11]. В студенческие годы Дюркгейм знакомился с исследованиями Огюста Конта и Герберта Спенсера, благодаря чему приобрёл интерес к научным методам в изучении общества[9]. Вместе с тем французская система образования того времени не предлагала каких-либо курсов, посвящённых наукам об обществе. Гуманитарный подход не заинтересовал Дюркгейма, переключившего своё внимание с психологии и философии на этику и, впоследствии, на социологию[9]. В 1882 году, будучи предпоследним студентом в классе, Дюркгейм сдал экзамены и получил право преподавать.
Реалии того исторического периода не позволяли человеку со взглядами Дюркгейма занять академическую должность в Париже. С 1882 по 1885 год он преподавал философию в ряде провинциальных школ[12]. В 1885 году он принял решение о переезде в Германию, где два года изучал социологию в университетах Марбурга, Берлина и Лейпцига[12]. В нескольких эссе Дюркгейм писал, что в Лейпциге он осознал ценность эмпирического подхода и его языка конкретных, сложных вещей, сильно контрастирующих с абстрактными и простыми идеями картезианского метода[13]. К 1886 году Дюркгейм завершил работу над черновиком работы «О разделении общественного труда», которая стала частью его докторской диссертации. В те годы его усилия были направлены на создание социологии как науки[12].
Академическая карьера

Германский период жизни Дюркгейма отмечен написанием многочисленных статей о немецкой общественной науке и философии. Особое впечатление на него произвели работы Вильгельма Вундта[12]. Статьи Дюркгейма получили признание во Франции, и в 1887 году он получил преподавательскую должность[прим. 2] в университете Бордо, где приступил к работе с первым в истории города общественно-научным курсом[12]. В частности, Дюркгейм впервые во Франции прочитал курс лекций по социологии[5][14]. Работа учёного на преимущественно гуманитарном факультете стала символом признания общественных наук в качестве значимой области знания[12]. Находясь в должности, Дюркгейм способствовал реформированию всей французской системы высшего образования. Тем не менее, его мнение о социальной детерминированности религии сделало его объектом многих критических заявлений.
В 1887 году Дюркгейм женился на Луизе Дрейфус, родившей ему впоследствии двух детей — Мари и Андре[5].
В 1890-х годах учёный был весьма продуктивен[12]. В 1892 году он опубликовал диссертацию «О разделении общественного труда», фундаментальный труд о природе общества и его развитии[15]. Его интерес к социальным феноменам подогревался актуальными политическими событиями. Поражение Франции в войне с Пруссией привело к падению режима Наполеона III и последующему становлению Третьей республики. Это, в свою очередь, привело к негативной реакции в отношении нового и светского республиканского правления, так как многие граждане считали решительный националистический подход ключом к реставрации угасавшей французской мощи. Дюркгейм, еврей и последовательный сторонник республики, симпатизировавший левой идеологии, оказался в политическом меньшинстве. Этот факт в совокупности с делом Дрейфуса 1894 года пробудил политическую энергию Дюркгейма[16].
В 1895 году из-под пера Дюркгейма вышла работа «Правила социологического метода»[12], своего рода манифест социологической науки с указанием её нынешнего и должного состояний. В том же году Дюркгейм основал в Бордо первый европейский факультет социологии. Спустя три года он создал первый в стране журнал об общественных науках, L'Année Sociologique («Социологический ежегодник»)[12]. В издании публиковались работы растущего числа посвящённых в тематику студентов, а также рецензии Дюркгейма на немецкие, английские и итальянские статьи. В 1897 году вышла книга «Суицид», ставшая образцом того, какой может быть монография в области социологии.
Парижские учёные долго отказывались принять «социологический империализм» и включить общественные науки в свои учебные планы[16]. К 1902 году Дюркгейм, наконец, получил значимую должность в столице, став преподавателем педагогики в Сорбонне. В 1906 году он стал полным профессором, а в 1913 году в названии его профессорской должности появилось упоминание и о социологии[5][16]. Формально французские университеты выпускали учителей средней школы, поэтому подобная должность давала ему существенное влияние: его лекции были единственным обязательным курсом для всех студентов. Параллельно Дюркгейм работал советником при министерстве образования[5]. В 1912 году увидела свет его последняя крупная работа, «Элементарные формы религиозной жизни».

Начало Первой мировой войны трагически сказалось на судьбе учёного. Его левые взгляды всегда сочетались с патриотизмом, но не с интернационализмом, Дюркгейм жил светской, рациональной жизнью француза. В результате войны и неизбежного появления националистической пропаганды, придерживаться данной точки зрения, всегда полной нюансов, стало весьма сложно. Дюркгейм всеми силами стремился помочь своей стране в сложный период, не желая в то же время ниспадать до примитивных правых настроений. Кроме того, еврейское происхождение социолога всегда было достоянием общественности, что и сделало его мишенью французских правых. Многие студенты Дюркгейма, призванные защитить страну, погибли на полях сражений. Наконец, в декабре 1915 года погиб Андре, сын учёного, не оправившегося от потери до самой смерти[16][17]. Эмоционально опустошённый Дюркгейм скончался в 1917 году от инсульта[17]. Он был похоронен на кладбище Монпарнас в Париже.
Социология Дюркгейма
На протяжении своей научной карьеры Дюркгейм стремился претворить в жизнь три основные цели. Прежде всего, он желал видеть социологию полноценной академической дисциплиной[16]. Во-вторых, Дюркгейм пытался проанализировать то, как общества поддерживают свою сплочённость и слаженность в условиях модерна, когда религиозные и этнические факторы уже не способны служить связующим звеном человеческого общежития. Исследуя социальную интеграцию, Дюркгейм писал о праве, религии, образовании и иных институтах[16][18]. Третий интерес социолога был связан с прикладными формами научного знания[16].
Внешние влияния
В годы студенчества на Дюркгейма оказали влияния два неокантианца, Шарль Ренувье и Эмиль Бутру[9]. Дюркгейм заимствовал у них такие принципы, как рационализм, научный подход к исследованию нравственности, антиутилитаризм и принцип светского образования[12]. На методологию Дюркгейма повлиял Нюма-Дени Фюстель де Куланж, последователь научного метода[12].
В качестве одного из фундаментальных влияний Дюркгейм воспринял социологический позитивизм Огюста Конта, искавшего способы применения метода естественных наук в областях знания, связанных с обществом[12]. Согласно Конту, подлинная общественная наука должна быть сосредоточена на изучении фактов и индуктивном выведении научных законов на основании взаимосвязей между этими фактами. Дюркгейм разделял взгляды позитивистов по многим вопросам. Во-первых, он также рассматривал факты в качестве основы социальных исследований. Во-вторых, он, подобно Конту, считал научный метод единственным ключом к получению объективного знания об обществе. В-третьих, он, как и Конт, верил, что социальные области знаний смогут стать полноценными науками лишь тогда, когда они будут освобождены от метафизических абстракций и философских домыслов[19]. Вместе с тем Дюркгейм считал, что взгляды Конта были слишком философичными[12].
Другой школой, повлиявшей на методологию Дюркгейма, стал социальный реализм. В отличие от эмпиризма и позитивизма, реализм основан на идее существования некоторых состояний действительности, не зависящих от восприятия их индивидом. Эмпиристы, в частности Дэвид Юм, утверждали, что вся окружающая человека реальность есть лишь плод его чувственного восприятия. Следовательно, реальность не обладает внутренней каузальной силой и не существует вне нашего восприятия[20]. Позитивизм Конта допускал возможность выведения научных законов из эмпирических наблюдений. Несмотря на то, что Дюркгейм никогда явно не говорил о приверженности реализму, он использовал этот подход для того, чтобы продемонстрировать наличие социальных реалий вне индивида — реалий, выраженных в форме объективных общественных отношений[20]. Он считал, что социология способна не только установить «очевидные» законы, но и раскрыть «врождённую природу» общества.
Учёные спорят о роли еврейской мысли в формировании методологической парадигмы Дюркгейма. Некоторые из них утверждают, что труды учёного представляют образец секулярной еврейской мысли[21][22]. Другие же считают, что доказать наличие определённого влияния крайне сложно или невозможно вовсе[23].
Формирование социологии
Дюркгейм стал автором многих программных тезисов о содержании и приложениях социологической науки[9]. Желая видеть социологию одной из общепризнанных наук[24], Дюркгейм писал:
| Социология в то же время не является вспомогательной для любой другой науки; она сама есть отдельная и независимая наука. Эмиль Дюркгейм[25][прим. 3] |
Говоря об объекте и методологии новой науки, Дюркгейм утверждал:
| В каждом обществе есть определённая группа феноменов, которые можно отличить от… тех, что изучаются другими естественными науками. Эмиль Дюркгейм[26][прим. 4] |
Фундаментальной целью социологии он видел открытие структурных «социальных фактов»[16][27].
Создание социологии как академической дисциплины считается одним из главных элементов интеллектуального наследия Дюркгейма[3]. Его работы повлияли на формирование такого социологического течения, как структурализм или структурный функционализм[3][28]. К учёным, испытавшим влияние Дюркгейма, относят Марселя Мосса, Мориса Хальбвакса, Селестена Бугле, Альфреда Радклиффа-Брауна, Толкотта Парсонса, Роберта Кинга Мертона, Жана Пиаже, Клода Леви-Стросса, Фердинанда де Соссюра, Мишеля Фуко, Клиффорда Гирца, Питера Бергера, Роберта Беллу, Зию Гёкальпа и других[3][29].
Методология

В книге «Правила социологического метода», вышедшей в 1895 году, Дюркгейм обозначил своей целью создание научного метода для социологии. Один из вопросов, поднятых в книге, касается объективности социолога: как может исследователь рассчитывать на достоверность данных, если состояние изучаемого объекта зависит от его воздействия? Согласно Дюркгейму, наблюдение должно быть в наивысшей мере беспристрастным и безличным, при этом полная объективность в этом смысле недостижима. Социальный факт должен всегда рассматриваться в системе взаимосвязей с другими социальными фактами, вне зависимости от личности исследователя. Таким образом, социолог должен отдавать преимущество компаративным методам исследования, а не рассмотрению отдельных независимых фактов[30].
Отмечается, что Дюркгейм мало путешествовал и никогда не участвовал в полевых исследованиях, причём часть авторов пишет об этом с явным сожалением, в то время как других социологов этот факт восхищает[31]. В то же время чисто теоретический характер носила деятельность многих французских учёных, а также известного британского антрополога Джеймса Джорджа Фрэзера[31]. В своих работах об австралийских аборигенах и жителях североамериканских арктических регионов Дюркгейм полагался на данные, собранные другими антропологами, путешественниками и миссионерами[31].
Впрочем, концентрация Дюркгейма на теоретической работе никоим образом не свидетельствует об игнорировании им реального[31]. Он не стремился к рискованным догматическим обобщениям, сделанным без учёта эмпирических наблюдений, но в то же время считал, что практика исследований далеко не всегда проливает свет на природу вещей. Он считал, что факты не имеют смысла до тех пор, пока они не классифицируются, а на их основании не выводятся законы. Дюркгейм неоднократно говорил, что источником знания о конкретной реалии служит объяснение, построенное на её внутренней природе, но не внешнее наблюдение за ней. Применяя этот подход, Дюркгейм сформулировал концепции сакрального и тотемного точно так, как Маркс создал концепцию класса[31].
Дюркгейм пытался создать один из первых точных методов для исследования социальных феноменов. Наряду с Гербертом Спенсером, Дюркгейм стал одним из первых исследователей, объяснивших существование и свойства различных частей общества в связи с теми функциями, которые они каждодневно исполняют. Учёный соглашался с органической аналогией, сопоставлявшей общество и живой организм[12], на основании чего Дюркгейм считается одним из предвестников структурного функционализма[9][32][33]. Дюркгейм настаивал на идее холизма, утверждая, что общество представляет собой величину большую, чем сумма его частей[34].
В отличие от современников, сторонников методологического индивидуализма Фердинанда Тённиса и Макса Вебера, Дюркгейм концентрировал внимание не на мотивациях действий индивидов, но на изучении социальных фактов.
Социальные факты
| Социальный факт есть всякий образ действия, фиксированный или нет, но способный накладывать на индивида внешнее ограничение; или же всякий образ действия, общий для всего данного общества, но в то же время существующий в своём собственном праве независимо от его отдельных проявлений. Эмиль Дюркгейм, «Правила социологического метода»[27][прим. 5] |
Ядром исследований Дюркгейма выступали социальные факты, понятие, введённое им для описания явлений, которые существуют сами по себе, не зависят от действий индивидов, однако оказывают на них принудительное воздействие[17][35]. Подобное воздействие может выражаться формально в виде правового регулирования или посредством неформальных, религиозных или семейных норм[36]. По мнению учёного, социальные факты в некотором смысле более объективны, чем действия составляющих общество индивидов[35]. Наблюдаемые социальные феномены можно объяснить только с помощью социальных фактов[9]. В отличие от фактов, изучаемых естественными науками, «социальные» факты принадлежат особой категории явлений:
| Определяющую причину социального факта необходимо искать среди предшествующих социальных фактов, но не среди состояний индивидуального сознания. Эмиль Дюркгейм, «Правила социологического метода»[27][прим. 6] |
Подобные социальные факты наделены принуждающей силой, благодаря чему они могут контролировать личное поведение[36]. Согласно Дюркгейму, эти явления нельзя редуцировать к биологическим или физиологическим основаниям[37]. Социальные факты могут выступать как в материальной, так и в нематериальной форме, представляя собой физические объекты или смыслы, настроения и иные проявления соответственно[35]. Нематериальные факты нельзя видеть или осязать, но они находятся вовне индивида и обладают силой принуждения, становясь тем самым реальными и приобретая фактичность[35]. В то же время некоторые нематериальные факты могут быть связаны с теми или иными физическими объектами. Например, физический объект флаг представляет ряд нематериальных социальных фактов: значение флага, важность флага и т. д.[35]
Даже такие индивидуальные и субъективные явления, как любовь, свобода или самоубийство, Дюркгейм рассматривал в качестве объективных социальных фактов[35]. Составляющие общество индивиды, считал он, напрямую не вызывают к жизни такой факт, как суицид: самоубийство присутствует в обществе как независимый социальный факт, обусловленный другими социальными фактами, например, правилами поведения или принадлежностью к группе[35][38]. Даже если человек «покидает» общество, оно по-прежнему будет содержать такой факт, как суицид. Этот факт невозможно устранить, и он обладает коэрцитивной силой, такой же как физическая гравитация[35]. В этом свете задачи социологии состоят в обнаружении качеств и характеристик подобных социальных фактов, которые можно найти с помощью количественных или экспериментальных методов. В частности, Дюркгейм часто полагался на методы статистики[39].
Общество, коллективное сознание и культура
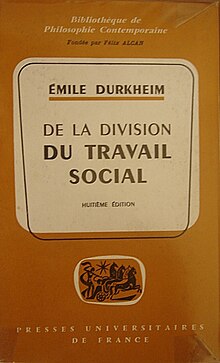
Рассматривая общество в целом, Дюркгейм воспринимал его как множество социальных фактов[18][28]. Вопросы «как создаётся общество?» и «что удерживает общество в единстве?» интересовали его больше, чем вопрос «что есть общество?». В книге «О разделении общественного труда» он попытался найти то, что обеспечивает целостность социума[40]. Учёный предположил, что люди по своей природе эгоистичны, однако нормы, убеждения и ценности, то есть то, что составляет коллективное сознание, формируют моральную основу общества, которая и обеспечивает социальную интеграцию[18][41]. Коллективное сознание, таким образом, имеет ключевое, жизнеобеспечивающее значение для социума[42]. Коллективное сознание «создаёт» общество и удерживает его в состоянии единства, и в то же время само коллективное сознание создаётся посредством взаимодействий индивидов[41][43]. С помощью него люди воспринимают других в качестве социальных существ, а не простых животных[42].
| Совокупность убеждений и настроений, знакомых рядовым членам общества, формирует детерминированную систему, живущую собственной жизнью. Её можно назвать коллективным или общим сознанием. Эмиль Дюркгейм[42][прим. 7] |
Эмоциональный компонент коллективного сознания замещает собой эгоизм. Так как человек эмоционально привязан к культуре, он поступает социально, поскольку признаёт подобный способ действия ответственным и нравственным[44]. Ключом к формированию общества являются общественные отношения, и, по мнению Дюркгейма, люди, находясь в группе, будут неизбежно поступать таким образом, который приведёт к формированию общества[44].
Представляет важность и другой ключевой социальный факт — культура[45]. Взаимодействуя, группы создают собственную культуру и связывают с ней сильные эмоции[45]. Дюркгейм стал одним из первых учёных, рассмотревших проблему культуры столь тщательно[28]. Его интересовали вопросы культурного разнообразия, а также причины, по которым разнообразие не уничтожает общество[46]. Социолог считал, что разрушительная сила разнообразия подавляется большей, более распространённой и более общей культурной системой и законом[46][47].
Используя социоэволюционный подход, Дюркгейм описал эволюцию общества как движение от механической к органической солидарности, возникающей как продукт взаимной потребности[28][40][48][49]. Когда общества приобретают более высокую степень сложности и переходят к органической солидарности, разделение труда противодействует и заменяет собой коллективное сознание[40][41]. В простых обществах люди связаны личными отношениями и традициями, в то время как в современных больших обществах индивиды всё больше опираются друг на друга, выполняя всё более специализированные задания[40]. В условиях механической солидарности люди самодостаточны, уровень интеграции остаётся незначительным, и поэтому для поддержания целостности общества необходимо применение силы[48]. Кроме того, в простых обществах человек обладает существенно меньшим набором жизненных путей[50]. При органической солидарности люди гораздо сильнее интегрированы и взаимозависимы, а специализация и кооперация принимают широкий оборот[48]. Переход от механической к органической солидарности основывается на ряде факторов: в первую очередь, это рост численности населения и повышение плотности населения, во-вторых, это повышающаяся «моральная плотность», то есть развитие общественных отношений, и, в-третьих, это углубление специализации труда[48]. Одним из критериев, отличающих механические и органические общества, является функция закона. В механическом обществе на первый план выходит его карательный аспект, а основная цель выражается в поддержании сплочённости сообщества — часто благодаря проведению публичных и предельно жестоких наказаний. В рамках органического общества закон, сосредоточенный скорее на индивидах, чем на сообществе, призван восстановить нанесённый ущерб[50][51].
Одной из главных особенностей современного, органического общества является то, что концепция индивида становится крайне важной или даже священной[52]. Не коллектив, но индивид становится субъектом прав и обязанностей, центром общественных и личных ритуалов, удерживающих общество в состоянии целостности, — ранее эту функцию выполняла религия[52]. Дюркгейм, желая подчеркнуть важность концепции индивида, говорил о «культе индивида» следующее:
| Таким образом, между индивидом и обществом не только не существует столь часто предполагаемый антагонизм, но в действительности моральный индивидуализм, культ человеческого индивида – это творение общества. Оно установило этот культ. Именно оно сделало из человека Бога, служителем культа которого оно стало. Эмиль Дюркгейм[53][прим. 8] |
Итак, ключевыми факторами эволюции обществ и наступления эпохи модерна Дюркгейм считал рост численности населения и увеличение его плотности[49][54]. С увеличением числа жителей некоторой области повышается число социальных отношений, взаимодействий, и общество становится более сложным[49]. Повышение конкуренции между растущим числом работников ведёт к дальнейшему углублению разделения труда[49]. Со временем важность государства, закона и индивида повышается, а религия и моральная солидарность отходят на задний план[54].
Дюркгейм говорил о моде как о другом образце эволюции культуры, в этом случае имеющем циклический характер[55]. Согласно учёному, мода призвана выразить различие между низшими и высшими слоями общества, при этом бедные члены общества стремятся перенять моду богатых, вынуждая их сменить старую, обесцененную моду на новую[55].
Социальные патологии и преступность
Дюркгейм писал, что существует ряд патологий, способных нарушить целостность общества. Две из них — аномия и принудительное разделение труда — играют ключевую роль, другие, как, например, суицид и слабая координация, менее значимы[56][57]. Под аномией Дюркгейм понимает состояние, при котором слишком быстрый рост численности населения уменьшает объём отношений и взаимодействий между различными группами, что ведёт к нарушению взаимопонимания, то есть распаду норм, ценностей и т. д.[41][56][58] Говоря о принудительном разделении труда, социолог подразумевает ту ситуацию, когда власти, ведомые жаждой наживы, принуждают людей к тем видам деятельности, к которым они не приспособлены[58]. Люди становятся несчастными, и их желание изменить систему может дестабилизировать общество[58].
В своём взгляде на преступность Дюркгейм отталкивался от общепринятых представлений. Он считал, что преступность связана с фундаментальными условиями всей общественной жизни и что она выполняет определённую социальную функцию[26]. Преступление может свидетельствовать о необходимости изменений в обществе, а иногда и подготавливать эти изменения. Изучая суд над Сократом, он говорил, что преступление философа, а именно независимость его мысли, «оказало услугу не только человечеству, но и его стране», поскольку оно «подготовило почву для новой нравственности и веры, необходимой афинянам»[26]. В этом смысле его преступление стало «полезной прелюдией к реформам»[26]. Дюркгейм считал, что в некоторых случаях преступление ослабляет напряжение в обществе, оказывая очищающий эффект. Далее он писал, что необходимым условием прогресса является возможность выражения оригинальных качеств личности, даже если речь идёт о преступнике[26].
«Суицид»
В книге «Суицид» (1897) учёный, среди прочего, исследует причины, обусловившие разницу в показателях суицида между протестантами и католиками. Он писал, что меньшее относительное количество самоубийств среди католиков объясняется более сильным социальным контролем в их сообществах. Согласно Дюркгейму, в католических обществах наблюдается нормальный уровень интеграции, в то время как общества протестантов интегрированы в меньшей степени. Дюркгейм находит причины дифференциации показателей суицида на макроуровне, рассматривая явления, характерные для всего общества в целом: объём взаимодействий между людьми, степень регламентации поведения и т. д.[40][59]
Данная работа стала предметом многих академических дискуссий, и в отношении книги были сформулированы несколько критических замечаний. Во-первых, Дюркгейм воспользовался данными прошлых исследований, осуществлённых Адольфом Вагнером, Энрико Морзелли и другими учёными, которые были, как правило, более осторожными в обобщениях, чем Дюркгейм[60]. Во-вторых, представители следующих поколений социологов обнаружили, что различия в показателях суицида между католиками и протестантами характерны лишь для немецкоговорящих регионов Европы, поэтому они, вероятно, обусловлены другими факторами[61]. Книгу Дюркгейма критиковали как образец ошибки, «экологического заблуждения», связанного с неверным истолкованием статистических данных, когда выводы о характеристиках индивидов делаются на основании выводов о группе, которой они принадлежат[62][63]. Впрочем, консенсуса о наличии в «Суициде» подобного рода ошибки нет[64]. Более поздние авторы, в частности Берк (2006), подвергают сомнению правильность соотношения микро- и макроуровня в данной работе[65]. Инкелес (1959)[66], Джонсон (1965)[67], Гиббс[68] и другие социологи писали, что Дюркгейм намеревался объяснить суицид с социологической точки зрения, применяя холистический подход. По мнению Берка, Дюркгейм намеревался объяснить изменение показателя в различных социальных средах, самоубийство же как действие отдельного человека осталось вне предмета его исследований[69].
Несмотря на некоторые ограничения, книга считается классическим исследованием в области социологии и одним из первых образцов современного социального изыскания. Она повлияла на формирование социологической теории контроля. Кроме того, работа способствовала отделению социальной науки от психологии и политической философии[70].
Религия
Главной работой Дюркгейма о религии стала книга «Элементарные формы религиозной жизни», в которой социолог попытался выявить социальные истоки и функции религии. Дюркгейм считал, что религия служит источником товарищества и солидарности в обществе[40]. С другой стороны, социолог предпринял попытку определения связей между религиями разных культур и поиска общего знаменателя этих вероисповеданий. Социолог хотел понять эмпирический, социальный аспект религии, общий для всех религиозных учений и выходящий за рамки концепций духовности и Бога[43].
Дюркгейм определил религию так:
| Религия есть унифицированная система верований и практик, связанных со священными предметами, то есть предметами обособленными и запрещёнными, — верований и практик, которые объединяют в одном-единственном нравственном сообществе, называемом церковью, всех тех, кто придерживается их. Эмиль Дюркгейм, «Элементарные формы религиозной жизни»[71][прим. 9] |
В своём определении учёный избегает упоминания сверхъестественного или Бога[71]. Дюркгейм утверждал, что концепция сверхъестественного появилась сравнительно недавно, и её появление связано с развитием науки и отделением сверхъестественного от естественного, то есть того, что невозможно объяснить рационально, от того, что поддаётся объяснению[72]. Иными словами, согласно Дюркгейму, древние люди воспринимали весь окружающий мир как нечто сверхъестественное[72]. С другой стороны, писал он, существуют религии, не придающие особого значения фигуре бога: например, в буддизме Четыре Благородные Истины более важны, чем некое божественное существо[72]. Таким образом, Дюркгейм оставляет лишь три основные концепции:
- священное, то есть идеи, которые невозможно изложить должным образом, идеи, внушающие благоговение и заслуживающие уважения или преданности;
- верования и практики, которые способны ввести верующих в состояние коллективного возбуждения и наделить те или иные символы священным значением;
- нравственное сообщество, то есть группа людей, приверженных общей этической системе[41][72][73][74].
Особое внимание Дюркгейм уделяет концепции священного, отмечая, что она составляет стержень религии[72]. Он определил священные предметы следующим образом:
| …просто коллективные идеалы, закрепившиеся за материальными объектами… они — лишь гипостазируемая коллективная сила, то есть моральная сила; они созданы из идей и настроений, пробуждённых в нас зрелищем общества, а не из ощущений, приходящих из физического мира. Эмиль Дюркгейм[75][прим. 10] |
Дюркгейм считал религию наиболее фундаментальным социальным институтом человечества, породившим все остальные социальные формы; «религия дала жизнь всему существенному в обществе»[43][55][76]. Именно религия дала человечеству сильнейшее чувство коллективного сознания[76]. Социолог рассматривал религию как силу, возникшую в обществах охотников и собирателей, как средство, заставившее людей действовать по-новому и ощущать некую скрытую, приводящую их в движение силу[41]. Со временем, когда эмоции получали символизированную форму, а взаимодействия приобретали ритуальный характер, религия стала более организованной, что привело к дихотомии «священное — мирское»[41]. При этом Дюркгейм считал, что религия постепенно утрачивала значение, поскольку её вытесняли наука и культ индивида[43][52].
| Поэтому в религии есть нечто вечное, призванное пережить последовательность отдельных символов, в которые религиозная мысль себя облекла. Эмиль Дюркгейм[54][прим. 11] |
Однако даже утрата религией своей роли не отменяла того факта, что вера заложила основы современного общества, а также взаимодействий и отношений, которыми оно регулируется[76]. Несмотря на появление альтернативных сил, Дюркгейм считал, что сила, которая могла бы полностью заменить религию, всё ещё не была создана. Современную ему эпоху модерна он рассматривал как «период перехода и нравственной заурядности»[54].
Социолог утверждал, что первичные человеческие категории понимания мира также имеют религиозное происхождение[55]. Согласно Дюркгейму, религия породила большинство общественных конструкций, в том числе и большие общества[76]. Поскольку категории создаются обществом, они являются продуктом коллективного созидания[40]. Когда люди создают общества, они дают жизнь и категориям, но делают это неосознанно, и в результате категории предшествуют любым формам личного опыта[40]. Таким образом Дюркгейм попытался преодолеть разрыв между пониманием категории как продукта и как предшественника человеческого опыта[40]. Человеческое понимание мира формируется социальными фактами: например, понятие времени определяется через календарь, который, в свою очередь, был создан для упорядочивания общественных сходов и ритуалов, появление которых связано с религией[76]. В конце концов религиозные корни можно просмотреть даже в предельно рациональных, безупречных с точки зрения логики научных изысканиях[76].
В рассматриваемой работе Дюркгейм коснулся и темы тотемизма, религии коренных жителей Австралии и Северной Америки[40][71]. Он считал тотемизм древнейшей из существующих религиозных форм и поэтому рассчитывал проследить в нём существенные элементы, характерные для религии в целом[40][71].
И теоретическая, и эмпирическая работа Дюркгейма в области исследования религии была сильно раскритикована специалистами данной области. Наиболее суровым критиком социолога стал его современник, Арнольд ван Геннеп, знаток религии и ритуалов, в частности, традиционных австралийских. Ван Геннеп прямо заявил, что мнение Дюркгейма о примитивных людях и простых обществах «совершенно ошибочно». Он утверждал, что Дюркгейму следовало отнестись к подбору источников с большей критичностью, так как в итоге он использовал данные торговцев и священнослужителей, наивно веря в их достоверность. По мнению Ван Геннепа, Дюркгейм, располагая довольно сомнительными данными, позволял себе весьма вольные интерпретации. Ван Геннеп критиковал французского социолога и на концептуальном уровне, отметив, что Дюркгейм был склонен заключать этнографию в рамки типовых теоретических схем[77].
Социолог Д. Ю. Куракин пишет[78]:
Сегодня для социологов очевидно, что в этой работе представлена одна из наиболее фундаментальных попыток построить общую социологическую теорию. Именно такова книга по своей композиции, содержанию, да и по своему конкретному влиянию на социологическую мысль. Однако если ориентироваться на заглавие и эмпирическую составляющую анализа, может показаться, что Дюркгейм пишет о первобытных религиозных формах и это и есть его конечная цель. Первые комментаторы были в значительной степени введены в заблуждение этой спецификой позиционирования книги, что хорошо иллюстрируют ранние рецензии. Но этим поверхностным недоразумением (в конце концов, если читать внимательно, ясно, что религия для Дюркгейма лишь средство, а его непреходящая дисциплинарная сверхзадача никогда не отходит на второй план) проблема далеко не исчерпывается.
Основные сочинения
- «Элементы социологии» (1889)
- «О разделении общественного труда» (1893)
- «Правила социологического метода» (1895)
- «Самоубийство» (1897)
- «Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии» (1912)
- «Воспитание и социология» (опубликовано посмертно в 1922)
- «Социология и философия» (опубликовано посмертно в 1924)
- «Эволюция педагогики во Франции» (опубликовано посмертно в 1938)
Переводы на русский
- Дюркгейм Э., Дени Э.ruen Кто хотел войны? = Qui a voulu la guerre ? (1914). — Пг.: Библиотека великой войны, 1915. — 93 с.
- О разделении общественного труда. — М., 1996.
- Социология. Её предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., сост., послесл. и прим. А. Б. Гофмана. — М.: Канон, 1995. — 352 с. — (История социологии в памятниках).
- О разделении общественного труда. Метод социологии. — М., 1991.
- Самоубийство. Социологический этюд. — СПб., 1912.
- (в соавторстве с Марселем Моссом) О некоторых первобытных формах классификации. К исследованию коллективных представлений // Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. — М., 1996.
- Принципы 1789 года и социология. // Социологический ежегодник, 2012: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии; Кафедра общей социологии НИУ-ВШЭ; Ред. Н. Е. Покровский, Ред.-сост. Д. В. Ефременко. – М., 2013. – С. 286-293. (Сер.: Теория и история социологии)
- Элементарные формы религиозной жизни. Тотемистическая система в Австралии. (Введение, Глава 1.) (пер. А. Б. Гофмана) // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. / Пер. с англ., нем., фр., сост. и общ. ред.: А. Н. Красникова. — М., 1998. — С. 174—230. — 432 с. ISBN 5-88373-134-1 (История философии в памятниках)
- Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система в Австралии. (Заключение) // Социологическое обозрение. 2018, т. 17, № 2, с. 115–121. Пер. В. Земсковой под науч. ред. Д. Ю. Куракина.
- Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии / пер. с франц. А. Апполонова и Т. Котельниковой; под науч. ред. А. Апполонов. — М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2018. — 736 с. ISBN 978-5-7749-1370-1
- Элементарные формы религиозной жизни / пер. с франц. В. Земсковой; под науч. ред. Д. Куракина. — М.: «Элементарные формы», 2018. — 808 с. ISBN 978-5-9500244-3-6
Комментарии
- ↑ «beliefs and modes of behaviour instituted by the collectivity».
- ↑ Полное название должности — «Руководитель курсов по социальным наукам и педагогике» (фр. Chargé d'un Cours de Science Sociale et de Pédagogie).
- ↑ англ. Sociology is, then, not an auxiliary of any other science; it is itself a distinct and autonomous science.
- ↑ англ. There is in every society a certain group of phenomena which may be differentiated from ....those studied by the other natural sciences.
- ↑ англ. A social fact is every way of acting, fixed or not, capable of exercising on the individual an external constraint; or again, every way of acting which is general throughout a given society, while at the same time existing in its own right independent of its individual manifestations.
- ↑ англ. The determining cause of a social fact must be sought among the antecedent social facts and not among the states of the individual consciousness.
- ↑ англ. The totality of beliefs and sentiments common to the average members of a society forms a determinate system with a life of its own. It can be termed the collective or common consciousness.
- ↑ Перевод с французского А. Б. Гофмана.
- ↑ англ. A religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things, i.e., things set apart and forbidden--beliefs and practices which unite in one single moral community called a Church, all those who adhere to them.
- ↑ англ. ...simply collective ideals that have fixed themselves on material objects... they are only collective forces hypostasized, that is to say, moral forces; they are made up of the ideas and sentiments awakened in us by the spectacle of society, and not of sensations coming from the physical world.
- ↑ англ. Thus there is something eternal in religion that is destined to outlive the succession of particular symbols in which religious thought has clothed itself.
Примечания
- 1 2 идентификатор BNF: платформа открытых данных — 2011.
- 1 2 Комитет исторических и научных работ — 1834.
- 1 2 3 4 5 Craig J. Calhoun. Classical sociological theory. — Wiley-Blackwell, 2002. — P. 107. — ISBN 978-0-631-21348-2.
- ↑ Kim, Sung Ho (2007). «Max Weber». Stanford Encyclopedia of Philosophy (August 24, 2007 entry) (Retrieved 17-02-2010)
- 1 2 3 4 5 Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 104. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- ↑ Durkheim, Émile. The Rules of Sociological Method, Preface to the Second Edition, trans. W.D.Halls, The Free Press, 1982, ISBN 978-0-02-907940-9, p.45.
- ↑ Simpson, George (Trans.) in Durkheim, Emile «The Division of Labour in Society» The Free Press, New York, 1993. p. ix
- 1 2 3 Gianfranco Poggi. Durkheim. — Oxford: Oxford University Press, 2000. — P. 1.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Craig J. Calhoun. Classical sociological theory. — Wiley-Blackwell, 2002. — P. 103. — ISBN 978-0-631-21348-2.
- ↑ Gianfranco Poggi. Durkheim. — Oxford: Oxford University Press, 2000. — P. 2.
- ↑ Bottomore, Tom, Robert Nisbet. A History of Sociological Analysis. — Basic Books, 1978. — P. 8.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Craig J. Calhoun. Classical sociological theory. — Wiley-Blackwell, 2002. — P. 104. — ISBN 978-0-631-21348-2.
- ↑ Jones, Robert Alun and Rand J. Spiro. «Contextualization, cognitive flexibility, and hypertext: the convergence of interpretive theory, cognitive psychology, and advanced information technologies». in Susan Leigh Star (ed.) 1995. The Cultures of Computing. Sociological Review Monograph Series, Google Print p. 149
- ↑ Gianfranco Poggi. Durkheim. — Oxford: Oxford University Press, 2000. — P. 3.
- ↑ Gianfranco Poggi. Durkheim. — Oxford: Oxford University Press, 2000. — P. x.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Craig J. Calhoun. Classical sociological theory. — Wiley-Blackwell, 2002. — P. 105. — ISBN 978-0-631-21348-2.
- 1 2 3 Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 105. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- 1 2 3 Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 102. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- ↑ Morrison, Ken (2006): Marx, Durkheim, Weber: formations of modern social thought. Second edition. SAGE, p. 151.
- 1 2 Morrison, Ken (2006), p. 152.
- ↑ Strenski, Ivan. 1997. Durkheim and the Jews of France. Chicago: University of Chicago Press, Google Print pp. 1-2
- ↑ Meštrović, Stjepan Gabriel (1993). Émile Durkheim and the reformation of sociology. Rowman & Littlefield, Google Print, p. 37
- ↑ Pickering, W. S. F. 2001. «The Enigma of Durkheim's Jewishness», in Critical Assessments of Leading Sociologists. British Centre for Durkheimian Studies, v. 1, Google Print, p. 79
- ↑ Damian Popolo. A New Science of International Relations: Modernity, Complexity and the Kosovo Conflict. — Ashgate Publishing, Ltd, 16 January 2011. — P. 97. — ISBN 978-1-4094-1226-7.
- ↑ The New Institutionalism in Sociology. — Stanford University Press, 2001. — P. 11. — ISBN 978-0-8047-4276-4.
- 1 2 3 4 5 Emile Durkheim, Foundations of the Classic Sociological Theory, in Classical and contemporary sociological theory: text and readings. — Pine Forge Press, 26 September 2007. — P. 101–102. — ISBN 978-0-7619-2793-8.
Classical and Contemporary Sociological Theory: Text and Readings. — Pine Forge Press, 26 September 2007. — P. 95–. — ISBN 978-0-7619-2793-8. - 1 2 3 4 Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 103. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- ↑ (недоступная ссылка), Turkay Salim Nefes, 'Ziya Gökalp’s adaptation of Emile Durkheim’s sociology in his formulation of the modern Turkish nation' International Sociology May 2013 vol. 28 no. 3 335-350.
- ↑ Cf. Collins, Randall. 1975. Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science. N.Y.: Academic Press, p. 529
- 1 2 3 4 5 Émile Durkheim. Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopædia Britannica Online. (Retrieved 14-06-2009)
- ↑ Hayward J. E. S. Solidarist Syndicalism: Durkheim and DuGuit, Sociological Review, Vol. 8 (1960)
- ↑ Thompson, Kenneth. 2002. Emile Durkheim. Routledge.
- ↑ Cf. Durkheim, Émile [1892]. «Montesquieu's Contribution to the Rise of Social Science» in «Montesquieu and Rousseau. Forerunners of Sociology», trans. Ralph Manheim (1960), p. 9
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 106. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- 1 2 Martin, Michael and Lee C. McIntyre. 1994. Readings in the Philosophy of Social Science. Boston: MIT press, Google Print p. 433
- ↑ Martin, Michael and Lee C. McIntyre. 1994. Readings in the Philosophy of Social Science. Boston: MIT press, Google Print p. 434
- ↑ Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 107. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- ↑ Hassard, John. 1995. Sociology and Organization Theory: Positivism, Paradigms and Postmodernity. Cambridge University Press (ISBN 0-521-48458-8) Google Print p. 15
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Craig J. Calhoun. Classical sociological theory. — Wiley-Blackwell, 2002. — P. 106. — ISBN 978-0-631-21348-2.
- 1 2 3 4 5 6 7 Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 137. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- 1 2 3 Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 108. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- 1 2 3 4 Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 112. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- 1 2 Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 109. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- 1 2 Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 110. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- 1 2 Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 111. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- ↑ Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 127. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- 1 2 3 4 Sztompka, Piotr, Socjologia, Znak, 2002, ISBN 83-240-0218-9, p.500
- 1 2 3 4 Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 125. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- 1 2 Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 123. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- ↑ Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 124. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- 1 2 3 Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 132—133. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- ↑ Émile Durkheim. Sociology and philosophy. — Taylor & Francis, 15 July 2009. — P. 29. — ISBN 978-0-415-55770-2.
- 1 2 3 4 Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 134. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- 1 2 3 4 Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 113. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- 1 2 Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 128. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- ↑ Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 130. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- 1 2 3 Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 129. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- ↑ Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 131. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- ↑ Stark, Rodney and William Sims Bainbridge. 1996. Religion, Deviance and Social Control. Routledge, Google Print p. 32
- ↑ Pope, Whitney, and Nick Danigelis. 1981. Sociology's One Law, Social Forces 60: 496—514.
- ↑ Freedman, David A. 2002. The Ecological Fallacy. University of California.
- ↑ H. C. Selvin. 1965. Durkheim's Suicide:Further Thoughts on a Methodological Classic, in R. A. Nisbet (ed.). Émile Durkheim, pp. 113—136
- ↑ Van Poppel, Frans, and Lincoln H. Day. A Test of Durkheim's Theory of Suicide--Without Committing the Ecological Fallacy. American Sociological Review, Vol. 61, No. 3 (Jun., 1996), p. 500
- ↑ Berk, Bernard B. Macro-Micro Relationships in Durkheim's Analysis of Egoistic Suicide. Sociological Theory, Vol. 24, No. 1 (Mar., 2006), pp. 78—79
- ↑ Cf. Inkeles, A. 1959. Personality and Social Structure. pp. 249—276 in Sociological Today, edited by R. K. Merton, L. Broom, and L. S. Cottrell. New York: Basic Books.
- ↑ Cf. Johnson, B. D. 1965. Durkheim's One Cause of Suicide. American Sociological Review, 30:875—86
- ↑ Cf. Gibbs, J. P. and W. T. Martin. 1958. A Theory of Status Integration and Its Relationship to Suicide. American Sociological, Review 23:14—147.
- ↑ Berk, Bernard B. Macro-Micro Relationships in Durkheim's Analysis of Egoistic Suicide. Sociological Theory, Vol. 24, No. 1 (Mar., 2006), p. 60
- ↑ Gianfranco Poggi (2000). Durkheim. Oxford: Oxford University Press. Chapter 1.
- 1 2 3 4 Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 115. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- 1 2 3 4 5 Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 116. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- ↑ Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 118. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- ↑ Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 120. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- ↑ Steven Lukes. Emile Durkheim, his life and work: a historical and critical study. — Stanford University Press, 1985. — P. 25. — ISBN 978-0-8047-1283-5.
- 1 2 3 4 5 6 Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. — Pine Forge Press, 2 November 2005. — P. 114. — ISBN 978-1-4129-0572-5.
- ↑ Thomassen, Bjørn (August 2012). “Émile Durkheim between Gabriel Tarde and Arnold van Gennep: founding moments of sociology and anthropology”. Social Anthropology. 20 (3): 231—249. DOI:10.1111/j.1469-8676.2012.00204.x. Используется устаревший параметр
|month=(справка) - ↑ Куракин Д. Ю. «Элементарные формы»: великая книга и великая тайна (рус.) // Социологическое обозрение. — 2018. — Т. 17, вып. 2.
Литература
- Bellah, Robert N. (ed.) (1973). Emile Durkheim: On Morality and Society, Selected Writings. Chicago: The University of Chicago Press (ISBN 978-0-226-17336-8).
- Cotterrell, Roger (1999). Emile Durkheim: Law in a Moral Domain. Edinburgh University Press / Stanford University Press (ISBN 0-8047-3808-4, ISBN 978-0-8047-3808-8).
- Cotterrell, Roger (ed.) (2010). Emile Durkheim: Justice, Morality and Politics. Ashgate (ISBN 978-0-7546-2711-1).
- Douglas, Jack D. (1973). The Social Meanings of Suicide. Princeton University Press (ISBN 978-0-691-02812-5).
- Eitzen, Stanley D. and Maxine Baca Zinn (1997). Social Problems (11th ed.). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon (ISBN 0-205-54796-6).
- Giddens, Anthony (ed.) (1972). Emile Durkheim: Selected Writings. London: Cambridge University Press (ISBN 0-521-09712-6, ISBN 978-0-521-09712-3).
- Giddens, Anthony (ed.) (1986). Durkheim on Politics and the State. Cambridge: Polity Press (ISBN 0-7456-0131-6).
- Henslin, James M. (1996). Essentials of Sociology: A Down-to-Earth Approach. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon (ISBN 0-205-17480-9, ISBN 978-0-205-17480-5).
- Jones, Susan Stedman (2001). Durkheim Reconsidered. Polity (ISBN 0-7456-1616-X, ISBN 978-0-7456-1616-2).
- Lemert, Charles (2006). Durkheim's Ghosts: Cultural Logics and Social Things. Cambridge University Press (ISBN 0-521-84266-2, ISBN 978-0-521-84266-2).
- Lockwood, David (1992). Solidarity and Schism: "The Problem of Disorder" in Durkheimian and Marxist Sociology. Oxford: Clarendon Press (ISBN 0-19-827717-2, ISBN 978-0-19-827717-0).
- Macionis, John J (1991). Sociology (3rd ed.). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. ISBN 0-13-820358-X.
- Lukes, Steven (1985). Emile Durkheim: His Life and Work, a Historical and Critical Study. Stanford University Press (ISBN 0-8047-1283-2, ISBN 978-0-8047-1283-5).
- Mestrovic, Stjepan (1988). Emile Durkheim and the Reformation of Sociology. Rowan & Littlefield. (ISBN 0-8476-7867-9)
- Осипова Е.В. Социология Эмиля Дюркгейма // История буржуазной социологии XIX — начала XX века / Под ред. И.С. Кона. Утверждено к печати Институтом социологических исследований АН СССР. — М.: Наука, 1979. — С. 204-252. — 6400 экз.
- Pickering, W. S. F. (2000). Durkheim and Representations, Routledge (ISBN 0-415-19090-8).
- Pickering, W. S. F. (ed.) (1979). Durkheim: Essays on Morals and Education, Routledge & Kegan Paul (ISBN 0-7100-0321-8).
- Pickering, W. S. F. (ed.) (1975). Durkheim on Religion, Routledge & Kegan Paul (ISBN 0-7100-8108-1).
- Siegel, Larry J (2007). Criminology: Theories, Patterns, and Typologies (7th ed.) Wadsworth/Thomson Learning (ISBN 0-495-00572-X, ISBN 978-0-495-00572-8).
- Tekiner, Deniz (2002). German Idealist Foundations of Durkheim's Sociology and Teleology of Knowledge, Theory and Science, III, 1, Online publication.
- Thompson, Kenneth (2002). Emile Durkheim (2nd ed.) Routledge (ISBN 0-415-28530-5, ISBN 978-0-415-28530-8).
| Дюркгейм, Эмиль в Викицитатнике | |
| Дюркгейм, Эмиль в Викитеке | |
| Дюркгейм, Эмиль на Викискладе | |
| Дюркгейм, Эмиль в Викиновостях |
Ссылки
- Дюркгейм, Эмиль в каталоге ссылок Open Directory Project (dmoz)
- L'Ecoles des Hautes Etudes Internationales et Poltiques HEI-HEP
- Странички Дюркгейма (Университет Чикаго)
- DD — Digital Durkheim
Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Википедии. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .