| ||
| Франц Хальс | ||
| Святой Лука. ок. 1625 | ||
| холст, масло. 70 × 55 см | ||
| Музей западного и восточного искусства, Одесса | ||
| (инв. 181) | ||
«Святой Лука» — картина руки фламандского живописца Франса Хальса, стала известна широкой публике по фильму «Возвращение Святого Луки». Была похищена в 1965 году с выставки, проводившейся в залах Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, затем возвращена в одесский Музей западного и восточного искусства.
Описание
Картина изображает Евангелиста Луку в традиционной иконографии. Старик сидит за столом за написанием Евангелия, за его спиной находится символ евангелиста — телец. Поясной срез фигуры и небольшой размер полотна свидетельствуют о её камерном предназначении. Пространство комнаты едва обозначено, равно как и атрибуты, что фокусирует внимание зрителя на лице и руках персонажа, которые резко характеризованы.
Полотно выполнено в тёплых коричневых тонах, что соответствует колористической гамме живописи эпохи Золотого века нидерландского искусства. «Евангелисты» работы Тербрюггена и Яна Ливенса, возможно, являются его иконографическими предшественниками, в свою очередь, являясь предтечей Рембрандта. Это редкий пример религиозной живописи Хальса, который был великолепным портретистом и практически никогда не писал святых. Эксперт творчества художника Слайв подчеркнул, что «шанс найти религиозную живопись Хальса был примерно такой же, как найти натюрморт работы Микеланджело»[1].
Голова Луки имеет сходство с рисунком апостола «Иакова Старшего» работы Гольциуса (Лейден, 1586). Головы святого Луки и Матфея, видимо, написаны с одной модели. Как указывает Слайв, голова Луки также очень близка к изображению провоста Иохана Дамиуса из «Банкета Офицеров Гражданской Гвардии Святого Адриана» работы Хальса (1620-е)[1].
- Хальс, «Банкета Офицеров Гражданской Гвардии Святого Адриана» (фрагмент), 1620-е
- Хендрик Гольциус. «Святой Иаков», 1586
- Тербрюгген, Хендрик. «Святой Лука», 1622
- Рембрандт. «Святой Матфей», 1661
История
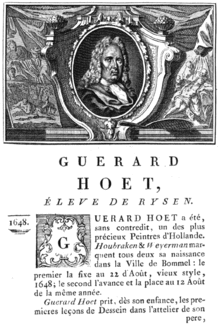
Изначально картина была частью цикла изображений четырёх Евангелистов. Датируется искусствоведами Сеймуром Слайвом[2] и Клаусом Гриммом[1][3] серединой 1620-х годов.
Неизвестно, кто и для чего заказал картины. Цикл, возможно, был написан для католической или лютеранской церкви, хотя небольшой размер и интимный характер живописи позволяют предполагать, что они были сделаны для небольшой частной капеллы либо для нелегальной католической церкви (schuilkerk) в Харлеме, или для частного дома. В Харлеме католические службы были разрешены в апреле 1581 года, но домашние капеллы были и раньше[1]. Возможно, заказчиком был протестант либо же Хальс написал их для себя — так сделал Тербрюгген с аналогичным циклом и Рембрандт с апостолами. Гримм и Слайв соглашаются с тем, что заказ был частным, а не секулярным. До XVIII века полотна находились на родине художника. Первое письменное упоминание о цикле картин относится к 1760 году, когда они вошли в список наследства художника Герарда Хоета Мл.
| Провенанс | |
|---|---|
| Дата | Владелец |
| до 1760 | Коллекция Gerard Hoet (II) (1698—1760). После его смерти имущество распродано. |
| 25—28.8.1760 | Продажа коллекции Gerard Hoet (II) у Franken & Thol, Гаага. Лот 134: «De vier Evangelisten, zynde vier Borst-Stukken met Handen, door F. Hals; hoog 26 1/2, breet 21 duimen». Цена — 120 флоринов, приобрел Jan Yver |
| Дата неизвестна | Приобретен F.W. baron van Borck (Амстердам), прусский коллекционер |
| 13.4.1771 | Анонимная продажа Rietmulder, Гаага (аукционный дом). Лот 34 «4 евангелиста» |
| 1.5.1771 | Приобретена обратно аукционером Jan Yver на анонимной продаже в аукционном доме H. de Winter & J. Yver, Амстердам, за 33 флорина. Ивер собирал вещи по заказу императрицы Екатерины II |
| 20.3.1812 | Передана в церковь (Крым) |
| после 1917 | Местонахождение неизвестно |
| с 1959 | Одесский музей западного и восточного искусства[4]. |
Затем они были приобретены в Голландии для Эрмитажа Екатериной Великой. В 1771 году корабли, транспортировавшие картины в числе других приобретений императрицы, попали в шторм: один из них затонул, а второй, с пробоиной, с трудом добрался до Петербурга (См. «Фрау Мария»; возможно, упоминание о чудесном спасении — легенда). В Эрмитаже картины попали в запасники как «не очень выдающиеся». В 1774 году они упоминаются в каталоге Эрмитажа, составленном Эрнстом Мюнихом[1].
В 1812 году куратор Эрмитажа Франц Лабенский по распоряжению Александра I отобрал 30 картин «для украшения католических храмов Таврической губернии». 30 марта 1812 года картины были отправлены на юг Российской империи. Возможно, в середине XIX века, во время сумятицы Крымской войны, цикл был разделён.[1].
В революционные годы, потрясшие Россию начала ХΧ века, работы были утеряны. Только в 1958 году «Лука» вновь объявился. Его увидел на одесском рынке «Привоз» местный коллекционер и сообщил об этом в музей. Полотно было куплено у старушки, продававшей его, по воспоминаниям режиссёра Анатолия Бобровского, за 9 рублей, хотя та просила за него 6 рублей. В запасниках одесского Музея западного и восточного искусства было найдено ещё одно подобное полотно. Возможно, история о покупке на рынке является легендой[5], и две картины не разлучались, По другим источникам, обе картины поступили в 1920 году из Одесской картинной галереи русского искусства[6]. Их автором считался тогда анонимный русский художник XIX века.
| История «Святого Луки» является очень наглядной иллюстрацией судьбы произведений искусства при советской власти[7]. |
Две недостающие картины цикла — «Марк»[4][8][9] и «Иоанн»[10] — оказались на Западе, в частных коллекциях (последний — с 1997 года в Музее Гетти)[11], причём «Святого Марка» пришлось расчищать от позднее пририсованного воротника. В сентябре 2013 года Фонд Усманова приобрёл «Святого Марка» для ГМИИ им. А. С. Пушкина (Москва).[12] (Частную галерею в Москве, куда привезли картину, посетила директор ГМИИ Ирина Антонова и сразу же выделила её среди прочих полотен[13]), а в ноябре того же года передал её в музей.[14]
Сотрудница Эрмитажа Ирина Владимировна Линник, известная своими открытиями, осенью 1958 года, просматривая запасные фонды Одесского Государственного Музея западного и восточного искусства, обратила внимание на две необычные картины. В углу полотен сохранились крупные красные цифры — «фирменный» знак старинной эрмитажной каталогизации (№ 1895 — у «Луки» и № 1896 — у «Матфея»). Уже при первом осмотре картин Линник убедилась, что «беспримерная по своей смелости манера живописи, широкая и энергичная, могла принадлежать только самому гениальному новатору живописной техники — Франсу Хальсу»[6].
Картина была идентифицирована как работа Хальса, известная по источникам. Это единственное обращение Хальса к религиозным сюжетам, причём о существовании цикла долгое время было известно лишь по упоминаниям, которые считались потенциально недостоверными в некоторых каталогах[6]. Сам цикл считался утраченным.
Вскоре картина была отправлена на выставку в Москву, откуда была похищена. После возвращения картине понадобилась реставрация. В настоящий момент картина экспонируется в одесском Музее западного и восточного искусства.
 |
 |
 |
 |
| «Лука» (Одесса) | «Матфей» (Одесса) | «Марк» (Москва) | «Иоанн» (Лос-Анджелес) |
Кража
Весной 1965 года обе картины — «Луку» и «Матфея» — привезли из Одессы в московский Пушкинский музей на выставку. 9 марта, в санитарный день, музей был закрыт для публики. Утром следующего дня было обнаружена кража картины. Картину варварски вырезали из рамы тупым ножом, вместо того, чтобы отделить раму сначала от подрамника, а затем полотно — по внешнему периметру. Это была первая кража в ГМИИ с 1930-х годов, когда похитили картины Доссо Досси и Тициана.
Розыск картины поручили оперативникам МУРа. Руководителем группы был назначен следователь Сергей Дерковский. Дело находилось на контроле в Прокуратуре СССР, куда Дерковского приглашали для докладов практически ежедневно[15].
Преступление было совершено через несколько недель после заявления министра культуры СССР Екатерины Фурцевой, находящейся в заграничной командировке: «В Советском Союзе, в отличие от Запада — музеи не грабят».[16] Эта кража была первым крупным случаем преступления подобного рода в СССР. Кража едва не стоила Фурцевой министерского кресла. О преступлении советская общественность не знала. Факт преступления был засекречен[7].
Поиски

Расследование поставили под особый контроль Генеральной прокуратуры СССР и Министерства охраны общественного порядка РСФСР (тогдашнее МВД), однако в течение нескольких месяцев после кражи никаких следов картины не было обнаружено[7]. Было выдвинуто предположение, что «Святой Лука» украден по заказу, поскольку в ГМИИ находятся не менее ценные экспонаты. Милиция отрабатывала всех иностранцев в Москве, интересовавшихся живописью. Под подозрение попал бельгиец Жак Ванденберг, искусствовед, остановившийся в «Метрополе». Он часами простаивал перед картинами голландских живописцев, что-то помечая в своем блокноте. К нему подсылают девушку-агента, которая, представившись дочерью подпольного коллекционера, предлагает приобрести у неё «Рембранта» (мастерски сделанную копию). Бельгиец просит время на раздумье, но на следующий день спешно покидает СССР, оборвав, как предполагалось, важную ниточку в расследовании кражи.[15].
Поскольку положительных результатов в розыске не было, Фурцева обращается к председателю КГБ Владимиру Семичастному, который забирает дело в КГБ. Фурцева постоянно «давила» на министра охраны общественного порядка Вадима Тикунова, требуя найти картину.
Другая ниточка тянулась в Одессу, где некий иностранец пытался вывезти неизвестную картину без досмотра. В багаже гражданина ФРГ Курта Шварцхайнера было найдено полотно, купленное им у «одного одесского коллекционера». Им оказался некий Томашевский, который после задержания сообщил, что проданная иностранцу картина — фальшивка. Проведённая экспертиза подтвердила его слова . И фальшивку, и другие картины в коллекции дилера, выполнил на высоком уровне копиист-студент Николай Иванчук[15].
В итоге дело зашло в тупик.
Разгадка

Преступление было раскрыто благодаря ошибке преступника. Почти через полгода после кражи, в августе[17], отчаявшийся вор выбрал в толпе возле магазина «Грампластинки», что на Калининском проспекте, одетого «по-западному» мужчину и предложил ему купить полотно старого мастера «уровня Рембрандта» всего за 100 тысяч рублей. Одетым «по-западному» человеком оказался сотрудник советского посольства в ФРГ, являвшийся также сотрудником КГБ. Он сразу понял важность предложения и сказал, что сам он живописью не интересуется, но готов найти покупателя. Была разработана спецоперация[15], одним из участников которой был Александр Громов, в 1965 году — старший уполномоченный 2-го Главного управления КГБ[17].
Следующая встреча была назначена у бассейна «Москва» в субботу, 28 августа. На роль покупателя подобрали Леонида Краснова, сотрудника внешней разведки, блестяще владевшего немецким [17]. Встреча состоялась у столовой, на улице Метростроевской. После торга молодой человек согласился продать картину за 60 тыс. рублей. После окончания встречи за преступником велась слежка, которая длилась недолго — до служебного входа Пушкинского музея, что привело сыщиков в изумление[15]. Через 40 минут объект наблюдения отправился на улицу Маркса и Энгельса и зашел в подъезд одного из домов.
Личность молодого человека была установлена. Им оказался Валерий Волков, 27 лет, по образованию — столяр-мебельщик, в 1957 году осуждённый за кражу личного имущества и освобождённый досрочно, в 1963 году принят на работу помощником реставратора в Музей изобразительных искусств имени Пушкина по подложному диплому.[15].
«Вся эта история должна была быть очень травматичной для спецслужб. И милиция, и КГБ действовали крайне неэффективно: они искали картину везде, где только могли, в то время как музейный работник в течение года скрывал её за печкой в своей квартире»[7].

На решающую встречу сотрудники КГБ прибыли на «Мерседесе» последней модели с автомобильными номерами ФРГ, взятом из автопарка КГБ. Волков предложил «покупателю» пройтись пешком вместе с ним. За ними последовали сотрудники наружного наблюдения («наружка»), которые в одном из переулков упустили объект. По словам Краснова, Волков провёл его арбатскими переулками к двухэтажному старинному особнячку, где находилась квартира Изольды, девушки Волкова. Там их встретил подросток, который молча вынес из кухни газетный свёрток. Служба наружного наблюдения нашла Краснова и Волкова только через час. В руках у Волкова была картонная коробка, которую ему дал Краснов. Волкова арестовали на улице Метростроевской (ныне — Остоженка) с коробкой в руках. Сам Краснов ушёл — продавец не должен был догадаться, что иностранец — подставной. Волков, находясь в машине КГБ, увидел застрявший «Мерседес» Краснова, который никто не ловил. Это, вероятно, позволило Волкову догадаться о том, что его ловко заманили в ловушку[17].
Позже выяснилось, что Волков, мечтавший поступить в Суриковское училище, не смог этого сделать из-за судимости. Продолжая испытывать тягу к прекрасному, он устроился в ГМИИ. Для этого требовалось высшее образование, и ему понадобился фальшивый диплом. Личная жизнь и ухаживание за девушкой привели к растущим долгам. Именно в то время с Волковым, предположительно, познакомился коллекционер Валерий Алексеев[15] и обещал ему помочь с дипломом за 1000 рублей[17].
Предположительно, Алексеев подготовил Волкова к краже: рассказал, как правильно вырезать и хранить картину, дал новую обувь, чтобы его не могли выследить собаки-ищейки. Он же и забрал у Волкова украденную картину и держал её у себя несколько месяцев, пока шёл безрезультатный поиск. Когда отдел кадров ГМИИ в ультимативной форме потребовал от Волкова диплом, тот, предположительно, пришёл к Алексееву за деньгами и документами, но, не получив ни того ни другого, забрал «Святого Луку». Дальнейшие нелепые шаги по продаже шедевра и привели вора к аресту[17].
По мнению следователя, Алексеев склонил Волкова к краже, получив заказ от неизвестного иностранного коллекционера либо советского подпольного миллионера, личность которого не установлена. Алексеев — ныне известный респектабельный коллекционер — решительно открестился от своей причастности к краже: «Я не имею никакого отношения к похищению картины „Евангелист Лука“, считаю всё случившееся провокацией, направленной против советских коллекционеров живописи. КГБ просто „пристегнул“ меня к этому делу. Я понятия не имею, где была картина, как её нашли…». Алексеева, утверждавшего, что его оговорили и он ничего не помнит, направили на экспертизу в Институт судебной психиатрии имени Сербского, где признали, что он не в состоянии отвечать за свои поступки[15].
Волков получил 10 лет лишения свободы (суд состоялся 21—22 февраля 1966 года). С осуждённого взыскали 901 рубль за реставрацию полотна, которое приглашённый эксперт оценил в 120 тыс. рублей[17]. Вина Алексеева не была доказана.
В 2008 году «Святой Лука» находился в музее, когда было украдено соседнее полотно — повторение «Поцелуя Иуды» Караваджо.

Реставрация
Холст оказался сильно повреждённым из-за плохих условий хранения. Бесценное полотно было свернуто похитителем в трубку, отчего по всему его красочному слою пошли мощные горизонтальные трещины, и почти полгода пролежало в таком виде в деревянном доме за печкой в сухости и тепле. Согласно выводу специалистов, проводивших осмотр, фактически полотно было утеряно безвозвратно.
Для спасения шедевра была проведена его реставрация, продлившаяся больше двух с половиной лет. Её провёл один из лучших реставраторов страны Степан Чураков, успешно реставрирующий полотна, принадлежащие Дрезденской галерее[15]. После реставрации картина была возвращена одесскому Музею западного и восточного искусства.
Фильм «Возвращение „Святого Луки“»
В 1970 году в СССР был снят фильм «Возвращение „Святого Луки“». Этот детектив был посвящён краже картины и успешному и её возвращению. Его сценарий не воспроизводил реальные факты. Титр «основано на реальных событиях» в фильме отсутствовал, и лента была воспринята публикой как художественное произведение, основанное на вымысле[7].
«В действительности, конечно же, широкая общественность пребывала в полном неведении относительно кражи. Тем не менее, правду нельзя было скрыть, поэтому понадобился ещё один механизм. История фильма „Похищение Святого Луки“ соблюдает классический механизм сокрытия истины путём выставления её на самом видном месте, — процедура, воплощенная в рассказе Эдгара По „Украденное письмо“. Так же, как лучший способ скрыть украденное письмо — это повесить его на стену, лучший способ скрыть скандальную кражу — это снять про неё художественный фильм без упоминания, что он основан на реальных событиях. Фильм должен был фикционализировать реальную историю и таким образом представить её недостоверной»[7].
История, изложенная в фильме — не правдивая, а правдоподобная.
| …именно правдоподобная. Реальная история была одновременно и проще, и запутанней. Совпадают только два факта — «Святого Луку» действительно украли из Пушкинского музея. А потом портрет действительно был найден и возвращен в музей[17]. |

По фильму, вором был опытный уголовник, которого нанял подпольный советский антиквар, получивший заказ на картину от западного арт-дилера в Москве. Антиквар снабжает похитителя картой музея. Полковник Зорин успешно раскрывает преступление, изучив подпольный художественный мир Москвы. В реальности подпольный рынок произведений искусства был перетряхнут основательно, но безрезультатно.
Заслуга в раскрытии преступления здесь принадлежит не КГБ, а милиции, что вполне соответствовала проводимому под покровительством министра внутренних дел Щёлокова восхвалению советской милиции в кинематографе. Перед премьерой Щёлоков показал фильм Брежневу в его личной резиденции в Завидове[16].
| Фильм | Реальность |
|---|---|
| Кражу совершил беглый вор-рецидивист | Кражу совершил сотрудник музея |
| Картину украли в ночное время | Картину украли в санитарный день |
| Картину нашли благодаря скрупулёзной работе органов | Картину нашли благодаря случайности |
| Преступника арестовала милиция | Преступника арестовал КГБ |
| Все заканчивается на морском теплоходе | Все заканчивается на Остоженке |
| Заказчик был наказан | Предполагаемый заказчик получил справку из Института психиатрии и остался на свободе |
| Милицейский детектив получился захватывающим, но сильно искажающим реальность — «ненужные» факты и ошибки государства скрыты, порок наказан, добродетель торжествует, КГБ не упомянуто[5]. |
Реализация этого фильма привела к далеко идущим последствиям для советского кинематографа и, в частности, для советского детективного жанра. Тема кражи произведений искусства, которая ранее отсутствовала в советской массовой культуре, была легитимизирована как полноправная составляющая жанра.
В фильме в качестве украденного шедевра использована копия, мастерски написанная сотрудником одесского музея Олегом Соколовым[15].
Документальные фильмы
- Фильм из цикла «Следствие вели…». Серия «Возвращение Святого Луки. Современная версия» (2006). Телеканал «НТВ».
- Фильм из цикла «Живая история». Серия «Похищение Святого Луки»
Выставки
- 1962. Нью-Йорк. Выставлены «Святой Лука» и «Святой Марк»
- 1960, 1962. Ленинград, Эрмитаж
- весна 1965. ГМИИ им. А. С. Пушкина (Москва). Выставка западноевропейской живописи XV—XVIII веков.
- 1989/1990. Вашингтон, Лондон, Гарлем. Ретроспектива Франса Халса.
- зима, 2005. ГМИИ им. А. С. Пушкина. «Картины Франса Халса „Евангелист Лука“ и „Евангелист Матфей“».[6]
- лето, 2012 года (до 9 сентября). ГМИИ им. А. С. Пушкина, выставка «Возвращение Святого Луки. Западноевропейская живопись VI—XVIII веков из музеев Украины»
Примечания
- 1 2 3 4 5 6 Colnaghi. Salomon Lilian. Frans Hals. St Mark. A lost masterpeace rediscovered. MMVIII
- ↑ S. Slive, Frans Hals, exhibition catalogue, National Gallery of Art, Washington DC, 1 October — 31 December 1990, Royal Academy, London, 13 January — 8 April 1990, Frans Halsmuseum, Haarlem, 11 May — 22 July 1990
- ↑ C. Grimm, Frans Hals, The Complete Works, 1990
- 1 2 Provenienz (недоступная ссылка). Проверено 29 августа 2012. Архивировано 7 апреля 2013 года.
- 1 2 Приключения святого Луки // Ваш Досуг
- 1 2 3 4 Картины Франса Халса «Евангелист Лука» и «Евангелист Матфей»
- 1 2 3 4 5 6 Алексей Радинский. Похищая «Святого Луку»: кража произведений искусства в советском кино // Журнал ART-Ukraine, 27 сентября 2010 (недоступная ссылка)
- ↑ С 1812 году — в крымской церкви, вероятно, до 1850-х в собрании Маттиоли (Салерно), с 1955 — анонимная покупка как работа Луки Джордано, с 1955 г. — арт-дилер Silvio Severi (Милан); 20 октября 1972 г. — «Кристис» (Лондон), лот 83, как анонимный «Портрет бородатого мужчины», в 1973-м году Клаус Гримм предположил, что это работа Хальса, известная по каталогу, составленному де Гроотом, в 2008 г. — частное собрание (Германия); в 2008 году приобретена арт-дилерами Salomon Lilian and Konrad Bernheimer; с 2009 года — арт-дилер P. & D. Colnaghi. В какой-то момент был записан для превращения в портрет — к одеянию был пририсован белый плиссированный воротник, после 1973 реставрирована
- ↑ 1997 год: продан на аукционе за 4 млн долл; в 2009 выставлен за 5.5 млн фунтов (The Season’s Most Intriguing Auctions // Forbes, March 16, 2009)
- ↑ Единственная дата провенанса: 3 июля 1997 — анонимный продавец на аукционе «Сотбис» (Лондон), приобретена музеем Гетти
- ↑ Saint John the Evangelist // Getty Museum
- ↑ Фонд Усманова устроил возвращение «Святого Марка» в Пушкинский музей // РИА Новости
- ↑ Русское небогатое // Коммерсант
- ↑ "Евангелист Марк" Франса Хальса передан в дар музею им. А.С. Пушкина — Иван Владимиров, Олеся Курпяева — Российская газета
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 А. Левит. БЕСЦЕННОЕ ПОЛОТНО ФРАНСА ХАЛЬСА «ЕВАНГЕЛИСТ ЛУКА» // События и люди по материалам документального фильма «Следствие вели…»
- 1 2 Фильм из цикла «Следствие вели». Серия «Возвращение Святого Луки. Современная версия» (2006).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Фильм из цикла «Живая история». Серия «Похищение Святого Луки»
Литература
- Catalogue of the Museum of Western European and Oriental Art, Odessa, 1973, p. 27
- Линник И. В. Франс Хальс. М., 1967
- Линник И. В. «Голландская живопись 17 века и проблемы атрибуции картин». «Искусство», 1980
- Y. Kuznetsov and I Linnik, Dutch Paintings in Soviet Museums, New York and Leningrad, 1982
- I. Linnik, ‘Newly Discovered Paintings by Frans Hals’, Искусство, 1959, no. 10
- I. Linnik, ‘Newly Discovered Paintings by Frans Hals’, Сообщения Государственного Эрмитажа, XVIII (1960)
- S. Slive, Frans Hals, exhibition catalogue, National Gallery of Art, Washington DC, 1 October — 31 December 1990, Royal Academy, London, 13 January — 8 April 1990, Frans Halsmuseum, Haarlem, 11 May — 22 July 1990
- S. Slive, ‘Frans Hals Studies: II. St. Luke and St. Matthew, at Odessa’, Oud Holland, LXXVI (1961)
- S. Slive, Frans Hals, 1970-4, vol. I, pp. 100–3
- C. Grimm, Frans Hals, The Complete Works, 1990
- Colnaghi. Salomon Lilian. Frans Hals. St Mark. A lost masterpeace rediscovered. MMVIII pdf
- P. Terwesten, Catalogus of naamlyst van schilderyen, met zelver prysen, zedert den 22. Aug.1752 tot den 21.Nov 1768 …verkogt… The Hague, 1770, vol. 3, p. 321, no. 124;
- E. Minich, Catalogue des tableaux qui se trouvent dans les galleries, salons et cabinets du Palais Impérial de S. Petersbourg, St. Petersburg, 1774, no. 1894; P. Lacroix, ‘Musée du palais de l’Ermitage sous la règne de Catherine II’, Revue Universelle des Arts XIII, 1862, p. 114, no. 1894 (reprint of Minich 1774);
- C. Kramm, De Levens en Werken der Hallandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Amsterdam, 1858, vol. 2, p. 362
- H. de Groot, A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch Painters of the Seventeenth Century, 1910, Vol III, nos. 4-7
- C. Grimm, ‘St. Markus von Frans Hals’, Maltechnik/Restauro I, 1974, pp. 21–31
- E. C. Montagni, Tout l’oeuvre peint de Frans Hals, (introduction by A. Chatelet), Paris, 1976 (translation of the Italian edition Milan 1974), 41, 42 (c1625)
Ссылки
| Святой Лука (картина Халса) на Викискладе |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




